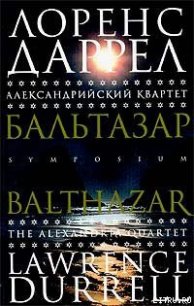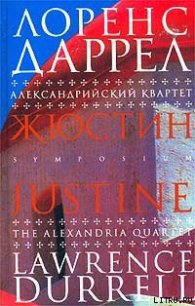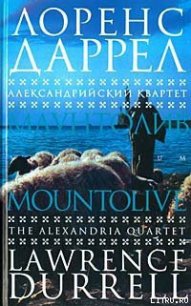Клеа - Даррелл Лоренс (чтение книг txt) 📗
Когда они вернулись обратно, к чаю, он был в настроении до странного приподнятом. «Ничего особенного, маленькое происшествие», – возгласил он во всеуслышание, прежде чем удалиться для переодевания – с нею вместе. Само собой, более в тот вечер ни о каких происшествиях даже и речи не было. Позже он спросил меня, не возьмусь ли я писать с Лайзы портрет, и я согласилась. Не знаю почему. Но у меня сразу же возникли по этому поводу какие-то дурные предчувствия. Отказаться я, естественно, уже не могла, но все время находила самые разные предлоги, чтобы в очередной раз сеансы отложить, и, если бы могла, тянула вечно. Немного странное возникает чувство, потому как модель она – такую поискать, и, может быть, через пару-тройку сеансов мы могли бы получше друг друга узнать и натянутость, которую я в ее присутствии постоянно ощущаю, глядишь, и прошла бы сама собой. Кроме того, мне бы и впрямь хотелось сделать ему приятное, он всегда был мне хорошим другом. Но как-то все… Мне любопытно будет узнать, о чем она станет спрашивать тебя. И еще любопытней – что ты ей ответишь».
Я: «Персуорден так часто меняет форму – на каждом повороте дороги, – что всякую мысль о нем приходится подвергать ревизии, едва она успеет сложиться в голове. Я уже начинаю сомневаться: а вправе ли мы высказываться вслух о незнакомых людях?»
Она: «У тебя, мой дорогой, маниакальное пристрастие к точности, и частичные, частные истины, которые… ну, скажем так, нечестно играют в отношении Знания, ты нетерпеливо отбрасываешь прочь. А разве может Знание быть другим – по сути? Не думаю, чтобы реальность хоть отдаленно напоминала наши человеческие полуправды о ней – как Эль-Скоб и Якуб. Я хотела бы довольствоваться теми поэтическими символами, в которых она сама нам намекает на истинные свои очертания и пропорции. Может быть, и Персуорден пытался сообщить нечто подобное в своих злых нападках на тебя – ты уже добрался до страниц под заголовком „Мои молчаливые беседы с Братом Ослом?“»
Я: «Нет еще».
Она: «Ты на них не слишком обижайся. Поганца следует почтить по смерти изрядной порцией доброго смеха, ибо, в конце-то концов, он был одним из нас, одной с нами крови. Кто чего добился в реальности – и не так уж важно. Он сам написал: „Нет в достатке ни веры, ни милосердия, ни нежности, чтоб оборудовать мир сей хотя бы единственным лучиком надежды, но до тех пор, пока еще звенит над миром этот странный и тоскливый крик, родовые схватки художника, – не все потеряно! Тихий писк вторично рождающегося на свет говорит нам, что чаши весов еще колеблются. Следи за мыслью моей, читающий эти строки, ибо художник есть – ты, любой из нас: статуя, которой должно вырваться наружу из материнской глыбы мрамора, с крошевом и кровью, и начать быть. Но когда же? Когда?“ А еще, в другом месте, он пишет: „Религия – это всего лишь искусство, обайстрюченное до полной неузнаваемости“, – фраза весьма характерная. Здесь был главный пункт его расхождения с Бальтазаром и прочими адептами тайных доктрин. Персуорден просто вывернул наизнанку их исходную теорему».
Я: «Для достижения своих личных корыстных художнических целей».
Она: «Нет. Для достижения своей бессмертной сути. И ничего нечестного я здесь не наблюдаю. Если ты рожден от племени творящих, нет смысла тратить время и напяливать сутану. Нужно просто хранить верность собственной системе координат, при этом отдавая себе отчет в том, что она изначально неадекватна. И пытаться достичь совершенства во всем, чем одарен от природы, – на каждом отдельно взятом уровне. На мой взгляд, здесь лежит ключик к целому ряду проблем (например, обязана душа трудиться или нет), а еще – к избавлению от иллюзий. Меня в этом смысле всегда восхищал старина Скоби как чистый образец – в своем роде, конечно, – полного расцвета всех врожденных дарований. Ему, как мне кажется, вполне удалось стать самим собой, без всяких оговорок».
Я: «Вот уж спорить бы не стал. Я думал о нем сегодня. В конторе. Возникла какая-то ассоциация – и вот он, проклюнулся. Клеа, покажи его еще раз, а? У тебя так хорошо получается, я просто немею от восторга».
Она: «Но ты же знаешь все его истории».
Я: «Чушь. Он был неистощим».
Она: «Хотела бы я скопировать обычную его мину. Этакий сыч-вещун и ворочает стеклянным глазом! Ну, ладно; только закрой глаза – и внемли истории о падении Тоби, об одном из его бесчисленных падений. Готов?»
Я: «Так точно».
Она: «Он мне ее поведал за обедом, как раз перед тем как я уехала в Сирию. Он сказал, что разжился кой-какими деньжатами, и настоял на том, чтоб угостить меня в „Лютеции“, со всеми возможными церемониями, скампи и кьянти. Начал он таким вот образом, тоном самым что ни на есть задушевным: "Чем Тоби всегда и везде выделялся, так это невероятной наглостью, плодами, так сказать, хорошего воспитания! Я говорил тебе, что отец у него был ЧП? [47] Неужто не говорил? Странно, мне казалось, я упомянул об этом как-то мимоходом. Да, очень высоко поставленный, так можно сказать. Но Тоби этим никогда не хвастал. И фактически – нет, ты сама посуди – он лично просил меня быть поосторожней на эту тему и ребятам на корабле не шибко-то распространяться. Ему не нужны всякие там поблажки, это он так говорил. Он не хочет, чтобы ему лизали разные там части тела только потому, что папаша у него ЧП. Он хочет пройти по жизни инкогнито, его слова, и сделать карьеру собственными своими руками, тяжким трудом. И заметь, у него вечно были проблемы с верхней палубой. Я думаю, в первую голову дело было в его религиозных убеждениях, – вот так я думаю. У него была безжалостная тяга к сутане, у нашего старика Тоби. Очень был оживленный молодой человек. Единственная карьера, которая была ему по душе, – небесный, так сказать, лоцман. Но все его как-то не рукополагали. Они утверждали, что он будто бы слишком много пьет. А он в ответ говорил, что, мол, это у него призвание такое сильное и оно толкает его на эксцессы. И как только они положат на него руки, все будет путем. Он больше капли в рот не возьмет. Он столько раз мне все это объяснял, когда ходил на Иокогаму. А когда напивался, всякий раз пытался отслужить обедню в кормовом клозете. А это ведь не на пять минут дела. Понятно, ребятам это не нравилось, и в Гоа капитан даже взял на борт епископа, чтобы тот с ним… в смысле порассуждал. Что ты, никакого толку. «Скобчик, – он мне, помню, говорил, – Скобчик, я так и умру мучеником за мое призвание, такие дела, браток». Но в жизни ничего нет сильней, чем предопределение. А уж у Тоби этого добра были полны штаны. И я ну ни капли не удивился, когда в один прекрасный день, много лет уже прошло, Тоби вдруг сходит на берег в сутане. Как ему удалось-таки пролезть в Церковь, он не сказал, ни-ни. Но мне один его дружок проговорился: он, говорит, нашел компромат на одного епископа-китайца в Гонконге, и тот не смог ему отказать. А как только он представил им артикулы, подпись там, печать, все упаковано, все в лучшем виде, – тут им и крыть уже было нечем, пришлось делать хорошую мину, и никаких моральных возражений. После этого он стал Бичом Божьим, службы служил где и когда только мог и раздавал направо и налево вкладыши из сигаретных пачек с портретами святых. На корабле своем он всем уже проел печенки, и они ему заплатили за рейс вперед, только чтобы он убрался. Они его даже подставить пытались; говорили, будто кто-то видел, как он сходил на берег с дамской сумочкой в руках! Тоби напрочь все отрицал, уверял, что это, мол, была церковная какая-то штука, кадило или навроде того, а они спьяну перепутали. В общем, в следующий рейс он пошел на пассажирском, который вез пилигримов. Нашел, наконец, свое место в жизни, это он так сказал. Службы с утра до вечера в салоне первого класса, и никто не ставит Слову Божьему палок в колеса. Но я с тревогой стал замечать, что пить-то он стал пуще прежнего и смешок еще такой странный у него появился, будто надтреснутый. Он был уже не тот старый добрый Тоби, каким я его знал. И опять же ничуть не удивился, когда узнал, что у него проблемы. Вроде как его обвиняли в том, что он пил на работе, а кроме того, что-то такое говорил насчет епископских ляжек. Вот тебе, кстати, еще одно доказательство, как он умный, потому что, когда они устроили ему трибунал, у него на все готов уже был ответ. Я не знаю, как это у них там в Церкви делается, но думаю, на том пилигримском судне епископов было как собак нерезаных; ну вот, они собрались все в салоне первого класса и стали, значит, его судить – так сказать, на военно-полевой манер. Но Тоби с его нахальством – куда им было за ним угнаться. Хорошее воспитание, оно человека приучает на любой вопрос тут же давать ответ, и сразу насмерть; в этом плане с хорошим воспитанием ничто не сравнится. Ответ был такой: если, мол, кто-то действительно слышал, что он, мол, того, шумно дышит во время мессы, – так это от астмы; а во-вторых, он никогда ни словом не обмолвился насчет епископских ляжек. Он говорил о фляжках, в которых этот епископ вез освященное вино! С ума сойти, до чего ловко. Мне бы и в голову такое не пришло. Ловчей этого старина Тоби ничего и никогда, на мой взгляд, не выдумал, хотя уж он-то отродясь за словом в карман лезть не привык. Ну, и все эти епископы настолько обалдели, что отпустили его с дурацким каким-то предупреждением и приговорили во искупление тыщу раз сказать «Аве Марию». А ему это было раз плюнуть, Тоби-то; нет, правда, никаких проблем, он просто-напросто купил себе маленький такой китайский молитвенный барабан, и Баджи наладил этот барабан говорить за Тоби «Аве Марию». Это замечательная такая приспособа, вполне, можно сказать, в ногу со временем. Один оборот – и вся «Аве Мария», или пятьдесят четок. Упрощает процесс, так он сказал; фактически можно молиться даже и без всяких там мыслей. Потом кто-то на него стукнул, и кэп эту штуку у него конфисковал. Еще одно предупреждение бедняге Тоби. Но он теперь на такие вещи плевать хотел, головой только мотнет и засмеется так, через губу, и все. Он катился по наклонной плоскости, сама понимаешь. Прыгнул, так сказать, выше задницы. Корабль с этими дуриками, с пилигримами в смысле, отмечался здесь чуть не каждую неделю, так что Тоби менялся буквально у меня на глазах. Я думаю, они были итальянцы и ездили по святым местам. Мотались туда-сюда, и Тоби с ними. Но, я тебе скажу, как он изменился! У него теперь постоянно были проблемы, он, понимаешь ли, совсем отбросил всякую сдержанность. Такой он стал – с причудами! Один раз пришел ко мне одетый кардиналом, в красном берете и с каким-то абажуром в руке. Я так и задохнулся. «Елки, – говорю ему, – палки! Этот архидей тебе вроде как не по чину, а, Тоби?» Буквально через день ему устроили форменный разнос за то, что нужно, мол, одеваться в соответствии с должностью, и я понял, что падать ему придется высоко и без парашюта и это вопрос времени. Я, на правах старого друга, сделал все, что мог, в смысле, чтобы его хоть как-то урезонить, но он просто не желал понимать, в чем, собственно, дело. Я даже пытался перебросить его назад, на пиво, но куда там. Там, где Тоби, пьют только огненную воду. Однажды мне пришлось озадачить ребят из полиции, чтобы они его доставили на борт. На сей раз он был одет прелатом. И ему просто море было по колено. И он потом пытался предать город анафеме с палубы первого класса. Махал какой-то – апсидой, что ли, так она называется? Последнее, что я видел, – это как его унимала целая толпа настоящих епископов. Они все были просто лиловые от натуги, как раз под цвет сутан. Бог мой, как эти итальяшки горячились! А потом – все, полный крах. Они его застукали in flagranti delicto [48], когда он потягивал освященное винишко.
47
Член Парламента.
48
На месте преступления, в момент совершения преступления (лат. ).