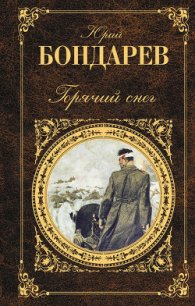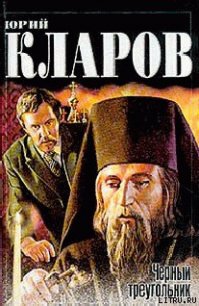Бермудский треугольник - Бондарев Юрий Васильевич (читать книги онлайн бесплатно регистрация .txt) 📗
— А ты думаешь, ты им нужен? — оборвал Андрей, злясь на истерику Жаркова, который со студенческих лет отличался мирной незаметностью услужливого увальня и привлек к себе внимание только после университета, когда поступил в какую-то студию при театре, а затем стал мелькать на сцене и на экране.
— Кому им? Кому им? — взъерошился Жарков.
— Червям, — сказал Андрей с той мерой шутки в голосе, что сглаживала резкость. — Инглиш, конечно, после университета мы все подзабыли. Но мне приходилось брать у англичан интервью. В английском “пьеса” и “игра” — омонимы. В чем дело, Афанасий? В какой пьесе ты играешь перед нами и где смысловые несовпадения? Вошел в роль убежденного демократа типа Захарова и Ульянова? Или играешь в мизансцене, которую твой режиссер назвал: проклятие прошлому.
Жарков вскинулся на диване, воскликнул с патетическим надрывом:
— Психопаты! Вы все сталинисты! Не знаю — за что я вас еще люблю! Хотя вы оскорбляете меня! Ненавидите моего режиссера, а не знаете, что он за человек — умный, смелый!..
— В чем? — вломился в спор Татарников. — В том, что заставляет раздеваться актрис?
— Я не об этом говорю! — потряс растопыренными пальцами обеих рук Жарков. — Я вот что хочу сказать! Послушайте — и вы поймете! Месяц назад был сердечный приступ у его жены. Он позвонил в “Скорую”, а врач приехал с опозданием на полтора часа. На полтора часа, понимаете?
— И что? — спросил Андрей.
— Он избил его.
— Избил врача? А как жена — здорова?
— Слава Богу. Он избил врача за халатность. Кажется, надорвал ему ухо. Я преклоняюсь перед ним. Настоящий мужик. Таких сейчас мало.
— Фу ты, страсти! Африканский темперамент. Силен демократ, — хмыкнул Татарников. — А как с милицией… обошлось? В каталажку не посадили? Зря!
— Милиция ходит на спектакли-с. Пхе, пхе, пхе-с, — захихикал Жарков, видимо, подражая какой-то театральной знаменитости, и выпуклые белки его намекающе заиграли. — Вот так-с, приходят по контрамаркам и зрят спектакли-с…
— До чего занятно, даже противно, — послышался полновесный голос Тимура Спирина, покатого в плечах, с могучей шеей силача, заграничный пиджак на нем распирался накачанными бицепсами, и аргентинской пестроты галстук лежал на покатой груди, как на горе. — Если гаденышу врачу надо было разок вложить, то режиссеру — дважды. Знал мордафон, что нырнет за спину милиции. Не мужик. Мусор. Зубами небось в ухо вцепился?
Спирин неторопливо, чтобы случайно не облить пиджак, отпивал пиво не из стакана, а из горлышка бутылки, удобно устроясь на крайнем диване, весь вид его говорил, что он отдыхал на встрече сокурсников, наслаждался вольными разговорами, от которых, возможно, отвык в той среде, где красноречиво не говорят. Не закончив университет, он ушел на какие-то военные курсы, затем работал в “Красной звезде”, был в Афганистане и Чечне вместе со спецвойсками. Вернувшись в Москву, он уже не занимался журналистикой, на вопросы о своей работе отвечал шутливо: “Я — пас, писать некогда”, — однако связь с сокурсниками полностью не терял: его тянуло прежнее общение. Но в его лице, походке, манере говорить и молчать появилась особенная самоуверенная складка, заметная у современных молодых людей, чувствующих собственную силу и принадлежность к силе.
Когда Мишин сказал, что звонил Спирин, и он пригласил его на бутылку “пива”, Татарников наотрез отказался встречаться: “Да он теперь другого поля ягода, в таинственных службах, я ему сейчас не могу во всем верить”, — на что Мишин возразил, убеждая, что Тимур всегда был настоящим парнем, серьезным малым, нельзя же отталкивать университетских однокашников, коли они ушли в другую область, которая не очень нам по душе. Так недолго оказаться в пустоте, и хотя подлость и перевертыши повсюду, пока, слава святым, Тимур есть для нас Тимур, никого из друзей не предавший и не продавший.
— Наверняка, Афанасий, ваш театр пыльным мешком не напуган, — сказал Спирин, приглаживая светлые волосы над ранними залысинами. — Устроили бы зрители обструкцию, не купили бы ни одного билета, все бы вы во главе с режиссером лежали в обмороке от страха…
— При чем страх? — крикнул Жарков. — Абракадабра!
— От страха перед голодной смертью, — договорил Спирин. — Плюгавцы должны бояться. А пока еще ничего не придумано сильнее страха.
— Кто? Мы — плюгавцы? Актеры? Милостивые господа! Что он изрекает? Что он плетет? Меня в твоем доме без конца унижают! Для чего ты меня пригласил? Я не какой-нибудь мальчик-с-пальчик для битья из города дзинь-дзинь! Завели разговор о театре, чтобы актеров назвать плюгавцами?
— Не спеши, не поднимай пыль, — бесстрастно сказал Спирин. — Не всех, не всех. Ты в стриптизе не участвуешь — не тот вид. Толстоват. Плюгавцы те, кто по сцене шастают без штанов и трясут персями без лифчиков. Но в “Женитьбе” и ты ходил с расстегнутой ширинкой.
Жарков усиливался сообразить, что ответить, по его гладким щекам скатывались капли пота, как слезы.
— Дичь! — взвился Жарков. — Дилетанты! Смешно вас слушать! Ухи вьянуть! Почему вы молчите, что мы ставим и трагедии? Вам об этом невыгодно говорить?
— Ваши трагедии, к сожалению, — это истекание вишневым соком, а не кровью, — сказал Мишин.
— Жиденьким — клюквенным соком! — тараном внедрился Татарников. — Деликатес для дам! Трагедию о девяносто третьем годе вам не поставить! Не хватит таланта! А для полного расцвета в духе нынешней моды надо бы вам создать авторитетный научно-исследовательский институт с опытным штатом тысячи в полторы. Во главе с сиятельным академиком Лихачевым, любимым ученым нашего президента. Ученый, говорят, в ссылке на Соловецких островах был замечен как большой специалист… в смысле лирических игр. До сих пор делает глазки секретаршам начальства. Те млеют, а светочу уже за девяносто. Весьма авторитетно высказывается за свободу порнографии. Таким, знаете, невинным, медовым голоском. Забавно! А в девяносто втором году призывал “обуздать антинародную политику правительства в области культуры”. Повернулся затылком вперед, очень современно.
— Пожалуйста, Виталий, не чересчур язви. Афанасий слишком нервничает. — Мишин с жалостью посмотрел на Жаркова, подавленно опустившего голову. — Для тебя же не новость, Афанасий, что театральный критик — это зритель, который причиняет неприятности. Ты же сам приглашал нас на премьеры.
— Напрасно делал.
— Вот, видишь, — продолжал Мишин. — А я по себе знаю, что неприятная критика зависит от многих причин — от несварения желудка, злой жены и черной зависти, а основное — от планового приказа. Подобные обстоятельства никак к нам не подходят. В общем, извини за выспренность: театр-то нужен человеку, чтобы почувствовать дыхание ближнего… Что он не одинок.
Жарков сопел, высокомерно воззрясь на Мишина.
— Пышно сказано, по-писательски очень. Высоко очень… для смертных, заумно.
— Мы любя бьем, любя, хоп? — подал малоутешительный голос Спирин. — Ясно, мозги набекрень вам свернул режиссер. И у вас, актеришек, — мандраже. Вы покорные ребята. Театральные рабы.
— Замолчи, охранник! Откуда ты привез этот “хоп”? Из Афганистана? Из Чечни? Что за “хоп”? — завопил Жарков воинственно. — Ты еще должен извиниться передо мной! Ты всех актеров оскорбил плюгавыми!
Спирин свистнул, затем, как бы разминаясь, играючи подкинул и на лету поймал пустую бутылку, беззлобно сказал:
— Хоп, хоп. Прости, отец, что не пошел под венец. Подозреваю: ты, парень, наверняка сошел с рельсов. Помочь ничем не могу. Кроме сигарет.
— А мне и не надо… Обойдусь! Привет!..
— На этом кончим. Квиты? — не дал договорить Андрей Жаркову и спросил Спирина: — Почему ты сказал, что сильнее страха ничего нет?
— Тимур миллион раз прав! — отчеканил Татарников. — Если бы не было кроличьего страха, вся Москва вышла бы на защиту Белого дома. Танкам не дали бы сделать ни выстрела, подняли бы кантемировское железо на руки и сбросили в Москву-реку. И весь бардак вмиг прекратился бы. Проклятое трусливое мещанство! Путы на ногах народа!