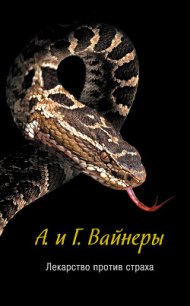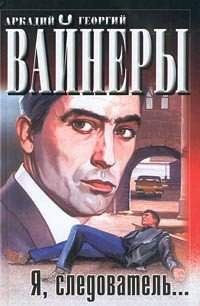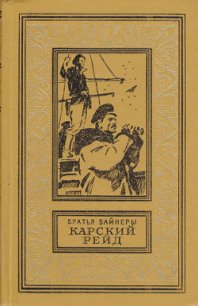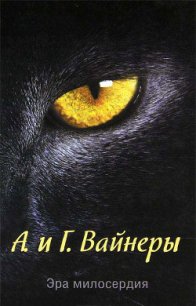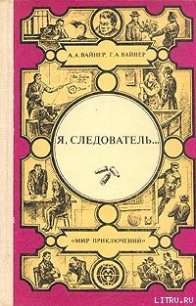Евангелие от палача - Вайнер Георгий Александрович (электронная книга .TXT) 📗
Грех это перед Господом нашим…
Майкин взгляд был весом с приличную могильную плиту. Ах, как она хотела бы накрыть меня ею окончательно, навсегда! Да силенки нету. Приходится нанимать Истопников. Я про вас все знаю, псы глоданые. Пригубила она из стакана троянской выпивки, льдинку на ковер сплюнула:
— Даешь, Хваткин. Ты от пьянства совсем сбесился…
— Ай-яй-яй! — горестно схватился я за голову. — В вашей же еврейской ките сказано: «Злословящий отца и мать своих — смертию да умрет!» Зачем же ты злословишь? Зачем сердце теснишь мне? А вдруг там правда написана вот сейчас брякнешься на пол, ножонками посучишь, и конец. А-а? Не боисся?
А зятек мой импортный, черноватенький ариец нордический, фээргэшный немец с густой прожидью, смотрел на меня оторопело. Невеста вожделенная, доченька моя ненаглядная, ему, конечно, многое обо мне поведала, да только сейчас понял он: по злобе дочерней, по обиде не правой, по семейной неустроенности оговорила она пахана своего, абсолютно простого русско-народного мужика, чувствительного фатера, симпатичного моложавого дедка. Чужая семья, чужая душа — славянские загадочные потемки. Когда в них вникают потомки. Из-за кордона. Еврееватые германцы Арминии из Бердичева. Где — то на заднем плане, сливаясь с обоями, маячило обеспокоенное лицо Марины, переживающей за то, что я позорю перед иностранцем высокое звание советского гражданина. У нас каждая подстилка — Жанна д'Арк. Народ поголовного патриотизма. Этическая раса патриотов. И понятых. Но я этот народ люблю. Это мой народ. Россия, я твой сын, от крайней плоти плоть. Веточка от могучего древа. Мы с народом едины. Они все — за меня, я один — за них всех. И люблю его преданной сыновней любовью, до теснения в сердце, до слез из глаз, до рези в яйцах.
Нет, нас с народом не поссорить. Мы еще друг с другом разберемся. Всем воздается: и сестрам — по серьгам, и бойцам — по ушам. И наступят тогда мир, благоволение в советских человецех и всеобщая социальная любовь. Только врагов, если не сдадутся, — уничтожим.
— А ты нам, сынок, зять мой дорогой внешнеторговый, не враг. Ты, верю, пришел к нам в дом с добром! Мир — дружба! Мы за торговлю и культурный обмен. Ко взаимной выгоде и без политических условий! Но — против наведения мостов! Мы против мостов! Не наша, не русская это выдумка — мосты. Паче — идеологические! Понял, сынок? Понял?…
Сынок понял. Кивал степенно, ухмылялся, с интересом смотрел на меня.
Смотри— смотри, хлопай своими толстыми еврейскими веками! Ты еще увидишь кой-чего… -Ты, сынок, запомни: мы люди простые, камень за пазухой не держим. Мы за равноправный обмен: вещи — ваши, а идеи — наши. Вещи, ничего не скажешь, у вас нормальные. А идея-то всепобеждающая — у нас она, у нас…
Смешно мне стало, будто под мышками пощекотали, такой хохотун напал на меня — прямо скорчило посреди комнаты. Сынок, глядя на меня, насильно улыбался.
Майка кусала губы, зыркала с ненавистью. А Марина похлопала меня легонько по плечу:
— Алле, чего это с тобой?
— Ой, не могу, смех разобрал! Ведь идея наша великая у них раньше была: ее придумал-родил один ихний бородатый еврей, фамилию запамятовал, да они, дурачки, не уберегли ее, идею, лебедь белокрылую, она к нам и перемахнула, возвышенная наша, лучезарная! Вот они, обормоты, и мучаются там теперь — при вещах, но без идеи. А идея — нашенская она теперь, собственная, про волосатого парха того все и думать забыли. Ага! То-то! Идейка-то наша гордо реет над землею, черной молнии подобна! Верно, сынок, говорю? Верно ведь, а?
— Верно, — согласился сынок и, откинув голову, все зекал на меня пристально, будто на мушку прицеливал, патрон последний жалел. Чё, сынок, не нравится тебе твой родненький тестюшка, невестушки твоей драгоценный фатер? Ничего, ничего, ты целься пока, я ведь все равно стреляю навскидку.
— Вот и ладушки, сынок! То-то и оно! Едреный корень! Главное — понять друг друга! А тогда и простить все можно! Только за войну, за то, что вы здесь вытворяли, что вы с нашим народом выко-маривали, — вот этого я тебе не прощу! И не проси… И не прощу… Хмыкнул сынок сухо, лениво растянул жесткие губы:
— Я здесь ничего не вытворял. Я родился после войны. — А папанька твой? Чего фатер твой здесь насовершал — знаешь? Это ведь только у нас сын за отца не отвечает, а у вас еще как отвечает! Фатер твой тоже, скажешь, ни при чем?
— И майн фатер ни при чем, — тихо ответил зятек и подтянул к глазам злые проволочки морщин. — Мой отец был арестован и убит в марте сорок пятого года.
— Никак коммунист? — радостно всполохнулся я. -Нет. Слава Богу, нет… — Ну, ладно. Пускай. Кто их, мертвых, разберет теперь — правых и виноватых. Давай выпьем, сынок, за знакомство. Кличут-то тебя как? Привстал сынок, поклонился слегка — воспитанная все ж таки нация — и сообщил:
— Доктор философии Магнус Тэ Боровитц… Магнуст Борович. В девичестве, небось, Мордка Борохович. Вот народец, ети их мать! Как хамелеоны, линяют. — Ладно, хрен с тобой, Магнуст, давай царапнем височек — за породнение городов, за воссоединение семей, за сближение народов. Мы хоть и против конвергенции, зато — за конвертируемые… Наливай, Магнуст…
Плеснул Магнуст в стаканы на палец — льду всплыть не на чем. Заграничный калибр. — Не-ет, сынок, у нас так не водится, мы, дорогой мой Магнус, так не пьем. Души у нас необозримые, желудки у нас бездонные! Дайкось пузырек мне… Взял я ухватисто белую лошадку за гладкую спину, как за холку хватал бывалоче — лет четыреста назад — своего гнедого-каурого опричного уайт хорза, дал шенкелей в деревянные троянские бока, горло сдавил ему до хрипа, и плеснула по стаканам широкая янтарная струя. До краев, под обрез. -Вот так! Так пить будем! По-нашему! -О-о, крепко, усмехнулся Мангуст, пожал плечами и поднял свой стакан на уровень глаз, и желтый прозрачный цилиндр, еще не выпитый, еще не взорвавшийся в нем, уже начал предавать его, ибо магической линзой увеличил, выявил, вывесил ястребиную хищность тяжелого носа, выдавил из башки рачью буркливость цепких глаз. У него не было зрачков. Только черная мишень радужницы. Потом выпил всю стаканяру — без муки, твердо, неспешно, лишь брезгливо отжимая толстую нижнюю губу. Поставил стакан на стол не закусил дефицитным апельсинчиком, не запил доброй русской водой боржомом, не скорчился. Приподнял лишь бровь да ноздрями подергал. И закурил. Теперь и я могу. Ннно-о, тро-огай, неживая! Пошла, пошла, моя троянская, скаковая, боевая, вороная, уайт-хорзовая! Ах, кукурузный сок, самогонный спирт! Бьешь в печенку ты, как под ложечку! Хха-ах! О-о-о! Вошел уайт-хорз в поворот, вырвался на оголтелый простор моих артерий, кривые перегоны вен, закоулки капилляров. Гони резвей, лошадка! Звенит колокол стаканов — сейчас пойдет второй забег. Что ты, Магнуст, держишь ее под уздцы?… — Уважаемый профессор, вам, наверно. Майя сказал, что мы хотим… — Э-э, сынок, дорогой мой Магнуст, так дело не пойдет! Что за церемонии — «уважаемый профессор»! Мы люди простые, мы этих цирлих-манирлих не признаем!
Таким макаром ты меня еще назовешь «глубокочтимый писатель», «почтенный президент федерации футбола» или «господин лауреат»! Нет, это не дело! Давай по-нашему, по-простому! Называй меня «папа» или, по-вашему, лиебер фатер…
— Перестань выламываться, сволочь! — прошипела синяя от ненависти Майка. Ах, лазоревые дочечки, голубые девочки Дега! И Магнусту не понравилось ее поведение — он ее хлобыстнул взглядом, как палкой. Притихла дочурка. Да, видать, серьезно у них. — Отчего нет, Маечка? — мягко спросил Магнуст. — Мне это нетрудно. Я могу называть нашего лиебер фатер также господином полковником, если ему это будет приятно… Молодец дочечка Маечка! Все растрепала, говниза паршивая. Ну-ну. Но я уже крепко сижу верхом на уайт хорзе, на их же собственном троянском горбунке, — все мне сейчас нипочем. — Альзо… Итак, мы решили пожениться, дорогой папа, с вашей дочерью и просим вашего содействия… Вот, е-мое, дожил: в моем доме говорят альзо — как в кино про гестапо. Де-тант, мать его за ногу! Послушал бы Тихон Иваныч, вологодский мой Штирлиц, — вот бы порадовался! Так дело пойдет — скоро у меня за столом на идиш резать станут.