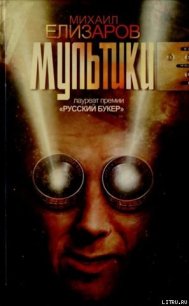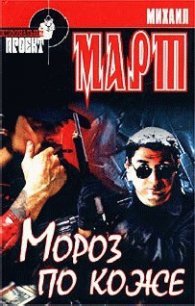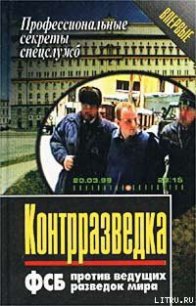Pasternak - Елизаров Михаил Юрьевич (читать книги без регистрации TXT) 📗
— Не, кроме шуток. Я бы сходил на проповедь, — сказал вдруг Леха. — Не, правда, мужики, интересно.
— Ты че, Леха, охренел? — спросил дядя Коля. — Пьяный, что ли. Ты ж всего ни хуя выпил.
— Нормальный я… — он посмотрел на американца. — А где проповедь будет?
— Очьень недалеко, — с готовностью отозвался тот, — а ми можемь до этого много поговорьит о Боге.
Леха поднялся из-за стола.
— Ладно, мужики, спасибо за компанию, я пойду, наверное…
— Ты куда, бля! — вскочил дядя Коля. — Ну я, бля, не понимаю ничего! Леха, еб твою! — Жилистой рукой он ухватил миссионера за отворот пиджака. — Ах ты ж пиздло!
— Я на вас так не сержус. Так не сержус. Аминь! О, ми оба болшие грешники, но я спасйон, а ви нет! Будем же спасатьса вместе!
— Что ты, сука, мозги ходишь ебать людям! Сядь, Леш, тебе нехорошо, наверное! Что ты ему веришь!
— Вот здес пишут… — американец указал на Библию. — Так возлюбиль бог мир, что отдал сына своего единородненького… А читат надо — так возлюбиль бог Льеху — понимат надо! Аминь!
— Ты, пидор, не отвечай за него! Леша, ну скажи что-нибудь, бля!
Миссионер скромно потупился:
— Ах, что может бит прекраснее, когда молодой человек говорит: Господь — Пастер наш! Пастер наш!
— Ебло закрой! — всполошился и Михалыч. — Леха, ты присядь…
— Вот есть про двоих малтшиков, — миссионер обморочно закатил глаза. — Петья говориль: «Мне не нужьно Библию, я не понимаю, что там». А Серьежа знал, что Петья покрал в саду у старушки яблуки, и сказал: «Одно, безусловно, ти можешь понят в Библии — вороват нельзя». И Петье било стыдно, и он говорит: «Ой, Господ видит все, что я делаю, аминь!» — И миссионер перекрестил сидящих своей книжкой.
— Я хуею, — произнес, наконец, Толя, глядя, как Леха деревянной походкой удалялся вслед за американцем. — Уболтал его.
— Да, бля, — почесал дядя Коля седеющий, будто загаженный птицами, затылок. — Первый раз такое вижу. Нормальный же был парень. Что с ним случилось?
— Душа — потемки, — сказал Михалыч. — И сколько мы его знаем… Второй день.
— Я такое слышал, — мешал карты дядя Коля, — эти проповедники по-русски говорят, и сами они русские, а только из какой-то зловредности слова коверкают, хотят на настоящих американцев походить.
— Хуею… — шептал Толя, переглядываясь со Степой.
Леха шагал рядом с миссионером, то и дело тормоша его за плечо:
— Понимаешь, по жизни все вроде нормально. Зарабатываю достаточно. Квартира трехкомнатная, машина. А на сердце тоскливо.
— О, это да, — сочувственно кивал американец.
— Не знаю, что со мной сегодня произошло. Я родителям бы такого не рассказал, а тебе — пожалуйста, все раскрыл.
— У тебья были трудности и извращьенья. А теперь все будьет хорошо. У меня тоже были извращьенья, но я избавился.
— И, понимаешь, — продолжал Леха, — главное — одиночество, леденящее одиночество и страх. А душа чего-то запредельного просит.
— Ти страдаль. А тепер будет много знакомых. Тебя будут любьить. Ты полючишь вторую семью. Ми будем очень часто встречаться. Мне ти можешь доверит все. Ми твои извращьенья все вместе обсудим, и ты не будешь их хотеть, а только смеяться.
Они прошли мимо старых пятиэтажных клетчатых хрущевок, точно нарисованных в тетради, маленького асфальтированного стадиона и брошенного продуктового магазина с выбитыми стеклами.
— А девушки у вас есть? — застенчиво спросил Леха.
— О да, очень много. — Американец лукаво засмеялся. — То наши будто сьестри. Кроме проповеди, ми в обичние дни собираемся на вечьерю, сидим, пьем чай, музику слушаем. Читаем Библию. Очень весело.
— О, а это ми куда? — спросил американец, сворачивая за Лехой на уходящую в бесконечность гаражную аллею.
— Как ты говоришь, «вечеря»? — словно не услышал вопроса Леха. — Это что такое?
— В нашей церкви такое разделение. Самая маленькая ячейка називается «вечьеря». В ней не больше двенадцати человек. А во главе — староста вечерьи. Ти тоже попадьешь в такую, будешь общаться, узнавать много нового.
— А ты староста вечери?
— Нет, — улыбнулся миссионер. — Видишь? — он показал круглый значок на лацкане пиджака. — Написано: «Энтони Роше, староста сфери». Уже второй год.
— А «сфера», это как?
— Смотри. Двенадцат вечьерь составляют общину. Община уже арьендует зал длья воскресной проповьеди и собраний. Там ми собираем наши пожертвования. Двенадцать общин составльяют сферу. А двенадцать сфер — регион.
— Знаешь, Энтони, я тут немного денег скопил. На что потратить не знал. Я лучше вам отдам. Все лучше, чем какую-нибудь хуйню покупать.
— Ти такой славный. Честний. Редкость в мире. Сегодня счастливый для менья день! Толко не надо рюгаться, о'кей?
— Извини, вырвалось.
Леха свернул между гаражами, американец, помедлив, за ним.
— О, а это ми так вийдем на проспект Льюначарского?
— Конечно. Это просто короткий путь, — обернулся Леха. — Я спросить хочу. Вот у тебя в подчинении почти две тысячи, ты большой, можно сказать, начальник, а проповедуешь по дворам.
— Так полежено в нашей церкви. Кроме руководства сферой, общиной и вечьерей, я обьязан еще по улицам работать.
— А я могу попасть в твою вечерю?
Американец засмеялся.
— Да, если очень просишь. Но ти вскоре познакомишься со многими старостами. Они тожье очень хорошие, не хуже менья, они твои соотечественники… Ой, как здесь не прибрано и мусорно…
Изнанка гаражей граничила с захламленным полем, через которое вдаль уходил серебристый тоннель газопровода в клочьях стекловаты.
— А где проспект? — спросил американец.
— Энтони, я, знаешь, что подумал. Давай ко мне зайдем. Я в гости приятелей жду. Уверен, им очень интересно будет тебя послушать. Они точно к вам в церковь заходят вступить.
— О да, — с сомнением произнес американец, потом решился. — Хорошо, пойдьем. Но ти должен бил менья предупредит…
— И что самое, бля, интересное, иной раз думаешь, что бы ни отдал: машину, квартиру, — лишь бы хорошие люди рядом в жизни появились, — пресно сказал Леха, будто пробегал слова заученного текста. — Не поверишь. Как будто чего-то не хватало, а теперь хватает, ебать навстречу!
— О, не ругайся. Это так плехо, грех… А что ми дальше не идем? — он с беспокойством оглядел тупик кирпичных стен и гаражных ворот ржавого коричневого цвета, с огромным навесным замком, способным похоронить любую тайну. — А это ми где? — спросил американец.
— Стой и не пизди, — сказал Леха.
— Я обратно пойду, — американец рванулся.
Леха хлестким ударом свалил беглеца.
— О, я так прошу Господа простит тебья… — с ненавистью бормотал миссионер, роняя изо рта кровавые сгустки.
— Вот он, отец Сергий… — произнес Леха.
Миссионер, стоя на четвереньках, по-волчьи затравленно глянул в молодое, обрамленное светлой бородой, лицо подошедшего. Плащ его чуть распахнулся, открывая ризу и епитрахиль. Поверх ризы висел серебряный крест.
Миссионер явно не знал, какую тактику предпочесть. Злоба и страх попеременно сменялись на его лице маской лживого смирения.
Наконец он сказал:
— Я совсем на вас не сержус. Произешло мальенькое недоразумение…
— Как твое настоящее русское имя? — неожиданно спросил священник.
Миссионер не ответил, рыская дикими глазами по сторонам, пальцы его сжимали черный корешок Библии.
— Как давно тебе разрешили проповедовать с акцентом? — задал священник следующий вопрос.
Миссионер весь напрягся и задрожал.
— Я полностью записал его, отец, вот, послушай, — Леха достал из кармана плоский диктофон, щелкнул кнопкой. Пленка затрещала как сверчок, потом Леха нажал на воспроизведение.
Раздались мутировавшие акцентом строчки: «…Зима стояля, дуль ветер из степи. Беби в вертепе померз, бедненький. А коровка погревала его воздухом из рота, и бичок тожьйе погреваль…»
— Это у них такой канонический текст, — сказал Лехе священник. Потом посмотрел на миссионера. — Где искать старосту региона?