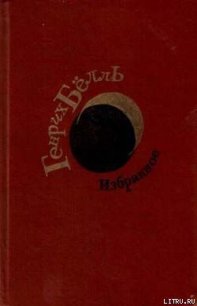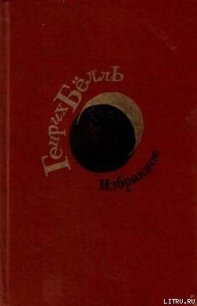Групповой портрет с дамой - Бёлль Генрих (читаем книги онлайн бесплатно без регистрации .txt) 📗
Начался ли в нем уже процесс распада? Бывший домашний врач Груйтенов доктор Виндлен – теперь ему восемьдесят, он уже давным-давно не считается с такой условностью, как врачебная тайна, и, сидя в своей старомодной квартире, где отдельные предметы обстановки, например белые шкафы и белые стулья, все еще напоминают о прежней практике, с жаром разоблачает лекарственную лихорадку, охватившую человечество, называя ее «тем же идолопоклонством», – так вот, этот доктор Виндлен утверждает, будто Груйтен был «совершенно здоров, именно здоров; все у него было в норме – печень, сердце, почки, кровь, моча… И он почти не курил, разве что одну сигару в день… И не пил тоже, может быть, бутылочку вина за неделю… Болей? Да нет же, никаких симптомов… И понимал, что делает. Ну, а то, что он казался иногда семидесятилетним стариком, еще ни о чем не свидетельствовало… Не спорю, психически и морально он был сломлен, стопроцентно сломлен, но органического у него ничего не было. Из библии он извлек одну-единственную фразу: «Приобретайте себе друзей богатством неправедным». И это тоже указывает на его здравый рассудок».
Интересовали ли Лени в тот период по-прежнему конечные продукты пищеварения? Видимо, нет. Но зато она все чаще посещала Рахель и рассказывала людям о своих визитах в монастырь, как сообщила Маргарет, рассказывала «странные вещи».
«Я ничему этому не верила, но как-то раз отправилась вместе с ней и поняла, что все – чистая правда. Гаруспику теперь уже от всего отстранили, она даже перестала быть «сестрой при туалете». В церковь ее и то не пускали, пускали, только когда не было хора и официального богослужения. У нее отняли старую келью и поселили на чердаке, под самой крышей, в чулане, где раньше хранились метлы, веники и половые тряпки. Знаете, что она у нас попросила? Сигарету. Я тогда еще была некурящая, а Лени дала ей несколько сигарет. Рахель тут же закурила, жадно затянулась, а потом погасила сигарету – я уже не раз видела, каким манером люди гасят сигареты. Сестра Рахель знала свое дело! Тут она была мастером! Чистая работа! Как в тюряге, как в больничной уборной. Она очень осторожно состригла ножницами горящий кончик сигареты, поковырялась еще немного в пепле – не попала ли туда, упаси бог, крошка табака, – а потом спрятала окурок в пустой спичечный коробок. При этом она не переставая бормотала: «Господь близок, господь близок, он здесь». Нет, она не казалась безумной и в голосе у нее не звучала ирония, сестра Рахель говорила серьезно… Она не была сумасшедшей, только немного опустилась, как будто ей из экономии не давали мыла. Больше я туда носа не показывала, честно говоря, боялась… Нервы у меня уже тогда сдали, ведь Генриха казнили и его двоюродного брата тоже; когда Шлёмер был в отъезде, я моталась по разным злачным местам для солдат и, подцепив какого-нибудь парня, уходила с ним; уже тогда я была на пределе; да, уже тогда, в девятнадцать лет. На эту монашку невозможно было смотреть, ее заперли, как мышь, приговоренную к смерти. Я это сразу поняла. В ту пору Рахель еще больше усохла; она жевала хлеб, который принесла Лени, и все время приговаривала: «Брось это, Маргарет, брось». «Что?» – спросила я. «То, что ты делаешь». Нет, я была не в силах с ней разговаривать, нервы у меня уже никуда не годились. А Лени ходила к ней еще долго-долго. Рахель тогда говорила странные слова. «Почему они меня не убьют? Все проще, чем прятать». И она без конца повторяла Лени: «Ты должна жить, черт возьми, ты должна жить, слышишь?» И Лени плакала. Она любил сестру Рахель. Ну, а потом люди, конечно, узнали…» («Что узнали?») «Узнали, что Рахель была еврейкой. Орден просто-напросто не сообщил властям, сделал вид, будто она исчезла при каком-то очередном перемещении. Орден прятал Рахель, но не очень-то щедро кормил. Ведь ей не полагалось продуктовых карточек. Впрочем, у монастыря был большой сад, и монахи откармливали свиней на убой. Нет, мои нервы этого не выдерживали. Она стала похожа на маленькую старую усохшую мышь… Да и Лени пускали к ней только потому, что она проявляла огромную энергию, и еще потому, что все знали: Лени – сама наивность. Она так и не разобралась, что значило тогда слово «еврей», слово «еврейка». А если бы даже разобралась, если бы поняла, в какую опасную историю влипла, то сказала бы: «Ну и что?» – и по-прежнему ходила бы к Рахели. Могу поклясться! Лени была храбрая… Все еще была храбрая. Самое тяжелое было слушать, как сестра Рахель говорила: «Господь близок, господь близок» – и смотрела на дверь с таким видом, словно господь вдруг войдет, вот-вот войдет… Меня это пугало, а Лени – нет… Лени тоже выжидательно поглядывала на дверь… Наверное, и она не удивилась бы, если бы господь явился собственной персоной… Мы посетили ее в начале сорок первого, когда я уже работала в госпитале. Рахель посмотрела на меня и сказала: «Плохо не только то, что ты делаешь… еще хуже то, что ты принимаешь, это самое скверное, давно ты это принимаешь?» Я ответила: «Две недели». Она сказала: «Тогда, значит, еще можно отвыкнуть». И я ответила: «Никогда в жизни я не отвыкну!» Речь шла, конечно, о морфии… Разве вы итого не знали? И даже не догадывались?»
В утешении не нуждалась, видимо, только одна госпожа Швейнгерт, которая в то время зачастила к Груйтенам – навещала свою умирающую сестру,
пыталась внушить ей, что «судьба не может сломить человека, она только придает ему крепости», а то, что муж сестры, Груйтен, «до такой степени сломлен», доказывает лишь его расовую неполноценность. Обращаясь к своей сестре, которая слабела не по дням, а по часам, Швейгерт ничтоже сумняшеся призывала ее равняться на «гордых фениев». Сама она вспомнила Лангемарк. А когда в ответ на вопрос о причинах столь явной скорби Лени ван Доорн – она единственный источник всех вышеприведенных сведений, – когда ван Доорн прямо заявила, что Лени, по всей вероятности, оплакивает сына Швейгерт Эрхарда, та очень оскорбилась, смертельно оскорбилась. Ее возмутил тот факт, что какая-то «вересковая девица» (новый вариант формулы «с позволения сказать, девушка». Прим. авт.) «осмеливается оплакивать ее сына, в то время как она, мать, его не оплакивает». После «наглого выпада» ван Доорн госпожа Швейгерт прекратила всякое общение с семьей Груйтенов, заметив на прощание: «Нет, это уж слишком, это действительно слишком… Вереск».
Ну, конечно, и в тот год показывали фильмы и Лени ходила иногда в кино. Она посмотрела картину «Товарищи в море», картину «То была бурная бальная ночь» и еще раз сходила на «Бисмарка».
Авт. сомневается, что фильмы эти принесли ей утешение или хотя бы отвлекли на время от мрачных мыслей.
А как обстояли дела с такими нашумевшими боевиками, как «Смелая солдатская женка» или «Мы идем на Британию»? Может быть, они утешили Лени? Сомнительно.
По временам все трое Груйтенов – отец, мать и дочь – лежали в своих постелях, каждый у себя в комнате с затемненными окнами; не выходили из комнат и при воздушных тревогах; «дни напролет, а то и недели они лежали не двигаясь, вперив взгляд в потолок» (ван Доорн).
Тем временем все Хойзеры – Отто, его жена, Лотта и ее сын Вернер – переехали в груйтеновский дом, и тут произошло одно событие, которое, хотя его и надо было ожидать, более того, точно предвидеть, было воспринято как чудо, и чудо это способствовало общему выздоровлению: в ночь с 21 на 22 декабря во время воздушного налета Лотта родила ребенка, мальчика, весом в три кило с четвертью. Роды начались немного раньше, чем предполагалось, акушерку не успели предупредить, и она была занята в другом месте (позднее выяснилось, что она принимала девочку); энергичная Лотта, как это ни странно, проявила слабость и беспомощность, ван Доорн тоже, и тут свершилось еще одно чудо: госпожа Груйтен встала с постели и начала отдавать приказания Лени ясным, энергичным и в то же время спокойным голосом; пока Лотта корчилась в последних схватках, в доме кипятили воду, дезинфицировали ножницы, заранее подогревали пеленки и одеяла, мололи кофе, доставали из шкафа коньяк; на улице стояла морозная темная ночь, самая темная ночь в году, и в эту ночь исхудавшая госпожа Груйтен («В чем только душа держалась». Ван Доорн) наконец-то показала, на что способна; в своем неизменном небесно-голубом халате она то подходила к комоду, проверяя на месте ли весь необходимый инструмент, то протирала лоб Лотты одеколоном, крепко держа ее за руку; в нужную минуту без всяких ахов и охов она широко развела ноги роженицы и помогла ей принять рекомендуемую полусидячую позу, после чего бесстрашно извлекла младенца, обтерла Лотту водой с уксусом, перерезала пуповину и позаботилась о том, чтобы ребенка, «потеплее закутав», опустили в корзинку для белья, которую Лени тщательно выложила подушками. Фугаски, падавшие совсем недалеко, ничуть не помешали госпоже Груйтен, а уполномоченного по противовоздушной обороне, некого Хостера, который тупо долдонил, требуя, чтобы погасили свет и чтобы все спустились в убежище, она так ловко отбрила, что свидетели этого происшествия (Лотта, Мария ван Доорн и старый Хойзер), не сговариваясь, в один голос заявляют: «Она выпроводила его не хуже полицейского».