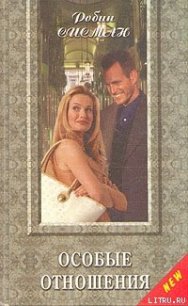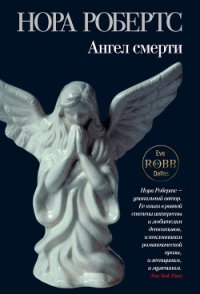Невинный, или Особые отношения - Макьюэн Иэн Расселл (библиотека электронных книг TXT) 📗
Теперь каждый день у него выдавались часы безделья. Он подолгу сидел на солнце у стены, под открытым окном. Кто-то из армейских делопроизводителей выставлял на подоконник радио и включал для играющих «Голос Америки». Если передавали бойкую песенку, питчер иногда медлил перед броском и похлопывал в такт по коленям, а игроки на базах щелкали пальцами и пританцовывали. Леонард еще никогда не видел, чтобы популярную музыку воспринимали настолько всерьез. Вызвать остановку в игре мог только один исполнитель. Если это был Билл Хейли с «Комете», и особенно «Rock around the Clock», сразу слышались просьбы сделать погромче, и игроки подтягивались к окну. На две с половиной минуты игра замирала. Леонарду этот пылкий призыв танцевать часами без перерыва казался ребяческим. Это походило на считалку, которую можно было услышать от девчонок, играющих в «классики»: «эне, бене, ряба, квинтер, финтер, жаба». Но постепенно тяжелый ритм и мужская напористость гитары стали завораживать и его, и теперь Леонарду приходилось напоминать себе, что он терпеть не может эту песню.
Вскоре он уже радовался, когда служащий, услышав объявление диктора, шел к окну и увеличивал громкость. Больше половины игроков собиралось в кучку у места, где он сидел. В основном это были армейцы из караульной службы – чисто вымытые, крупные, стриженные «под ежик» ребята не старше двадцати лет. Все они знали, как его зовут, и всегда обращались с ним дружелюбно. Для них эта песня была, казалось, больше, чем просто музыкой. Это был гимн, заклинание, оно объединяло этих игроков и отделяло их от людей постарше, которые ждали, стоя на поле. Такое положение вещей сохранялось лишь три недели, затем песня потеряла свою силу. Она звучала громко, но игру уже никто не прерывал. Потом на нее и вовсе перестали реагировать. Нужно было что-то новое, но подходящая замена появилась только в апреле следующего года.
Однажды, на пике триумфа Билла Хейли среди здешнего персонала – американцы как раз столпились у раскрытого окна, – Джон Макнамй явился проведать своего шпиона. Леонард увидел, как он идет от административного здания к их кружку, где вопило радио. Макнамй еще не заметил его, и у Леонарда была возможность отстраниться от того, к чему ученый на правительственной службе наверняка отнесся бы с презрением. Но он ощутил потребность в некоем вызове, желание продемонстрировать верность коллективу. Он был его почетным членом. Он принял компромиссное решение, встав и протиснувшись к краю группы, где и остался ждать. Едва увидев его, Макнамй направился к нему, и они вместе пошли вдоль складской ограды.
В молочных зубах Макнамй была зажата раскуренная трубка. Он склонился к своему подопечному.
– Полагаю, вы ничего не добились.
– Если честно, нет, – сказал Леонард. – У меня было время осмотреться в пяти кабинетах. Ничего. Я говорил с разными техническими работниками. Они все строго соблюдают секретность. Я не мог нажимать слишком сильно.
В действительности его актив состоял только из безрезультатной минуты в кабинете Гласса. Он не умел завязывать беседу с незнакомыми. Еще пару раз он пытался войти в запертые комнаты, и это было все.
– Вы пробовали заговорить с Вайнбергом? – сказал Макнамй. Леонард знал, о ком речь: ученый имел в виду смахивающего на гончую американца в ермолке, который играл сам с собой в шахматы, сидя в столовой.
– Да. Он не захотел со мной разговаривать. Они остановились, и Макнамй сказал:
– Ну что ж… – Они смотрели в сторону шоссе Шенефельдер, примерно по направлению туннеля. – Плоховато, – добавил Макнамй. Леонарду показалось, что он говорит с непривычной жесткостью, намеренно вкладывая в свои слова нечто большее, нежели разочарование.
– Я старался, – сказал Леонард. Макнамй глядел мимо собеседника.
– Конечно, у нас есть и другие возможности, но вы продолжайте стараться. – Еле заметный нажим на последнее слово, эхо употребленного Леонардом, выдавал его скептицизм, звучал почти как обвинение.
Хмыкнув на прощанье, Макнамй зашагал обратно к административному корпусу. Леонарду вдруг почудилось, что вместе с ученым по вытоптанной площадке от него удаляется и Мария. Мария и Макнамй повернулись к нему спиной. Американцы уже возобновили игру. Он ощутил слабость в ногах, тяжесть своей вины. Он собирался снова занять место у стены, но на мгновение у него пропала охота делать это, и он замешкался там, где был, у колючей проволоки.
11
Следующим вечером, выйдя из лифта на своем этаже, Леонард увидел Марию, дожидавшуюся его у двери в квартиру. Она стояла в углу – плащ застегнут, обе руки на ремешке сумки, которая висела впереди, прикрывая колени. Это можно было бы принять за позу раскаяния, но голова ее была поднята, глаза встретили его взгляд. Она заранее отвергала предположение, что, разыскав Леонарда, тем самым согласилась простить его. Уже почти стемнело, и в обращенное на восток лестничное окно проникало очень немного закатных лучей. Леонард нажал кнопку выключателя со встроенным таймером у своего локтя, и устройство затикало. Это тиканье напоминало лихорадочный стук сердца крохотного существа. Двери лифта закрылись за ним, и кабина поехала вниз. Он произнес ее имя, но не сделал ни шага по направлению к ней. В свете единственной лампочки над головой под ее глазами и носом легли длинные тени; это придало ее лицу суровое выражение. Она еще не заговорила, не шелохнулась. Она пристально смотрела на него, выжидая, что он скажет. Глухо застегнутый плащ и официальное положение рук на сумочке намекали, что она готова уйти, если объяснение не удовлетворит ее.
Леонард растерялся. Слишком много обрывков фраз роилось у него в голове. Ему преподнесли подарок, который он легко мог загубить, разворачивая. Механизм выключателя рядом с ним тихо стрекотал, мешая собраться с мыслями. Он снова произнес ее имя – этот звук просто слетел с его губ – и сделал полшага в ее сторону. В шахте лязгнули тросы, потащившие свой груз вверх, раздался вздох лифта, открывшегося этажом ниже, потом шум отворяемой двери и голос Блейка, требовательный и приглушенный. Когда дверь в квартиру снова захлопнули, он резко оборвался. Выражение ее лица не изменилось. Наконец он сказал:
– Ты получила мои письма?
Она на мгновение прикрыла глаза – это было утвердительным ответом. Три письма, полные любовных признаний и сбивчивых извинений, цветы и конфеты сейчас ничего не значили.
– Я поступил очень глупо, – сказал он. Она снова прикрыла глаза. Теперь ее веки оставались внизу секундой дольше, и это можно было счесть формой ободрения, признаком того, что она начинает смягчаться. Он уже нашел верный тон, искренность. Это было не слишком трудно. – Я все испортил. Когда ты уехала, я впал в отчаяние. Я хотел отыскать тебя в Шпандау, но мне было стыдно. Я не знал, будешь ли ты в силах простить меня. Мне было стыдно подойти к тебе на улице. Я очень тебя люблю. Я все время думал о тебе. Если ты не сможешь меня простить, я пойму. Это был ужасный, бессмысленный поступок…
Еще никогда в жизни Леонард не говорил о себе и своих чувствах таким образом. Он не умел и думать в такой манере. А если точнее, до сих пор он просто не знал, что способен на глубокие переживания. Он никогда не заходил дальше признаний в том, что ему в целом понравился вчерашний фильм или что он терпеть не может теплого молока. Раньше по-настоящему серьезные чувства были ему неведомы. Только теперь, назвав их по имени – стыд, отчаяние, любовь, – он получил реальную возможность претендовать на них, испытывать их. Признание в любви к женщине, стоявшей у его двери, облегчило ему душу и обострило стыд, который вызывала у него мысль о нападении на нее. Когда он дал этому имя, тоскливая мука последних трех недель прояснилась. Он словно освободился от бремени. Теперь, когда он мог описать туман, сквозь который брел все эти дни, он по крайней мере начал различать в нем себя.
Но он еще не вышел на открытое место. Поза Марии и ее взгляд оставались прежними Помолчав, он сказал: «Пожалуйста, прости меня». В этот миг таймер щелкнул, и свет погас. Он услыхал, как резко, с шумом вдохнула Мария. Когда его зрение привыкло к полумраку – окно было у него за спиной, – он увидел отблеск света на застежке сумочки и белках ее глаз, кинувших быстрый взгляд в сторону. Он отважился на риск и отступил от выключателя, не нажав его. Воодушевление придало ему уверенности. Тогда он поступил плохо, теперь же исправит ошибку. От него требуется только одно – простота, искренность. Больше он не будет слепо брести сквозь пелену страданий, он точно назовет их и таким образом от них избавится. Почти полная темнота давала ему возможность коснуться Марии и тем самым восстановить старую связь между ними – простую, истинную связь. Слова найдутся потом. Он был уверен, что теперь нужно только одно – взяться за руки, может быть, даже поцеловаться.