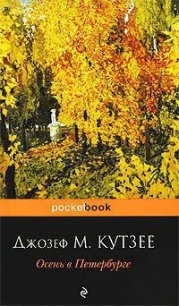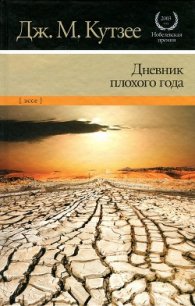Осень в Петербурге - Кутзее Джон Максвелл (книги без сокращений .TXT) 📗
Может быть, и Нечаев, когда настанет его черед пересечь темную реку, избавится наконец от своей волчьей природы и снова научится улыбаться.
Итак, на следующий день он ждет против лавки Яковлева появления Анны Сергеевны. Едва завидев ее, он переходит улицу, наслаждаясь удивлением, с которым она на него смотрит.
— Не согласитесь ли побродить немного со мной? — спрашивает он.
Она подтягивает к подбородку темную шаль.
— Не знаю. Матрена будет ждать.
Тем не менее они отправляются на прогулку. Ветер утих, воздух бодрящ и прохладен. Приятная сутолока окружает их на улице. Никто не обращает на них внимания. Они могли бы быть супружеской парой, каких немало.
Анна Сергеевна нынче с корзинкой, которую он у нее забирает. Ему нравится ее поступь, широкий шаг, руки, сложенные под грудью.
— Мне уже скоро в дорогу, — говорит он.
Она не отвечает.
Вопрос о жене его по-прежнему нечувствительно их разделяет. Упомянув об отъезде, он ощущает себя шахматным игроком, жертвующим пешку, которая, независимо от того будет ли она принята или отвергнута, неминуемо приведет к новому, более сложному развитию партии. Всегда ли таковы романтические отношения между мужчиной и женщиной — он плетет свою интригу, она свою? Не в этом ли отчасти и состоит наслаждение — быть целью чужой интриги, ощущать, как тебя загоняют в угол и ласково принуждают к сдаче? И она, идущая рядом с ним, тоже по-своему умышляет против него?
— Я жду лишь завершения следствия. Мне нет даже нужды дожидаться судебного решения. Я только хочу получить бумаги. Все остальное значения не имеет.
— И тогда вы возвратитесь в Германию?
— Да.
Они достигают набережной. Переходя улицу, он берет ее под руку. Бок о бок они прислоняются к парапету.
— Не знаю, ненавижу ли я этот город за то, что он сделал с Павлом, — говорит он, — или ощущаю с ним еще более тесную связь. Потому что теперь он стал домом Павла. Павел никогда уже не покинет его, не отправится, как мечталось ему, путешествовать.
— Что за глупости, Федор Михайлович, — отвечает она, улыбаясь краешком губ. — Павел с вами. Вы его дом. Он в сердце вашем. Куда поедете вы, туда и он. Это всякому видно.
И она гантированной рукой легко касается груди его.
Сердце подскакивает, словно задетое кончиком ее пальца. Было ли то кокетством или жест этот шел из глубины ее души? Самое естественное сейчас
— обнять ее. Он сознает, что взгляд его положительно пожирает ее милые губы, на которых еще мешкает улыбка. И она не уклоняется от этого взгляда. Не юная женщина. Не ребенок. Анна Сергеевна смотрит на него поверх распростертого меж ними тела Павла, и он, и она словно отбросили все сомнения прочь. Мелькает мысль: «Если бы только его не было здесь!» — и исчезает, словно свернув за угол.
У уличного лоточника они покупают для ужина пирожки с рыбой. Матрена открывает им, но, завидев спутника матери, поворачивается спиной и уходит. За столом она капризничает, настаивая, чтобы мать выслушала ее длинный, путаный рассказ о пустой ссоре, случившейся между нею и школьной подружкой. Когда он вставляет несколько слов, содержащих вполне безобидные доводы в пользу подружки, Матрена фыркает, не удостаивая его ответом.
Он знает, девочка что-то почувствовала и старается отстоять свои права на мать. И почему же нет? Это истинные ее права. «И все же, если бы только ее не было здесь!» Эту мысль он подавить не пытается. Не будь здесь ребенка, он не стал бы тратить слов. Он задул бы свет, и в темноте они снова отыскали б друг друга. И кровать у них была бы пошире, вдовья кровать, протомившаяся по мужскому телу — сколько, она сказала? — четыре года.
Его посещает грубое в своей чувственности видение Анны Сергеевны. Нижняя юбка задрана так высоко, что оголяет ей груди. Он лежит между ног ее, стиснутый долгими, бледными бедрами. Лицо Анны отвернуто, глаза закрыты, дыхание тяжко. И хоть мужчина, совокупляющийся с нею, это он сам, картина видится ему такой, точно он стоит пообок кровати. Главное в картине — бедра: руки его обвивают их, он прижимает их к своим бокам.
— Ну что же ты, доедай, — говорит Анна Сергеевна дочери.
— Не хочу я есть, и горло болит, — ноет Матрена.
Еще с минуту девочка ковыряется в тарелке, затем отталкивает ее.
Он встает.
— Спокойной ночи, Матреша. Надеюсь, завтра тебе станет лучше.
Девочка не затрудняет себя ответом. Он уходит, оставляя поле боя за нею.
Источник видения ему понятен — открытка, несколько лет тому купленная в Париже и уничтоженная вместе с прочими его эротического характера приобретениями в пору женитьбы на Ане. Длинноволосая женщина лежит под усатым мужчиной. «Цыганская любовь», гласит сделанная вычурными буквами надпись. Впрочем, у женщины на картинке были пухлые ноги и дряблое тело, а на лице ее, повернутом к мужчине (опиравшемуся на распрямленные руки), никакого выражения не читалось. Бедра Анны Сергеевны, Анны Сергеевны его воспоминаний, худощавее и сильнее, и в пожатии их присутствует некая настоятельность, относимая им к тому, что она не девочка, но взрослая, полная желаний женщина. Взрослая и потому открытая (это слово не пожелало уступить место никакому иному) смерти. Тело, жаждущее новых впечатлений, ибо знает, что жить ему не вечно. Мысль эта возбуждает, но и тревожит его. Бедрам ее не важно, кто зажат между ними: мужчина на картинке, глядящий на нее несколько сверху и сбоку, одновременно и он, и не он.
На кровати его стоит прислоненное к подушке письмо. На один безумный миг он решает, что это письмо от Павла, занесенное сюда неведомым духом. Но нет, почерк детский. «Я хотела нарисовать Павла Алескандровича, — читает он (Матрена ошиблась в написании отчества), — но у меня не получилось. Если хотите, можете поставить его на алтарь. Матрена». На обороте немного смазанный карандашный портрет молодого человека с высоким лбом и полными губами. Рисунок грубоват, девочка, видимо, и представления не имеет о создающей тени штриховке, но рот и особенно открытый взгляд переданы ею с несомненною верностью.
— Да, — шепчет он, — конечно поставлю. — Он подносит рисунок к губам, затем прислоняет его к подсвечнику и зажигает новую свечу.
Когда час спустя в дверь стукает Анна Сергеевна, он все еще глядит на пламя.
— Входите. Присядьте.
— Нет, не могу. Матреша неспокойна — боюсь, заболела.
Тем не менее она все же присаживается на кровать.
— Они заставляют нас оставаться добродетельными, наши детишки, — говорит он.
— Добродетельными?
— Пекутся о нашей нравственности. Удерживая нас в отдалении друг от друга.
Как, однако ж, приятно, когда их не разделяет обеденный стол. Да и пламя свечи дышит каким-то мягким уютом.
— Мне жаль, что вам приходится уезжать, — говорит она, — но, возможно, так для вас лучше — оставить этот печальный город. Да и для семейства вашего тоже. Ему, должно быть, грустно без вас. А вам без него.
— Я возвращусь другим человеком. Жена меня не узнает. Или решит, что узнала, и ошибется. Полагаю, нас ожидают трудные времена. Я стану думать о вас. Но кем вы будете мне представляться? — вот вопрос. Жену ведь тоже зовут Анной.
— Мне это имя досталось раньше, чем ей. — Ответ ее неожиданно резок, лишен всякой игривости. И он в который раз понимает: если он полюбил эту женщину, то частью и оттого, что она уже немолода. Она перешла за черту, к которой жене его еще предстоит приблизиться. Она может быть милее ему, может не быть, но она безусловно ближе.
Чувственное напряжение возвращается, еще и усилясь. Всего неделю назад они лежали в этой постели, держа друг друга в объятиях. Возможно ли, что она не думает об этом сейчас?
Потянувшись к ней, он кладет руку ей на бедро. Она наклоняет голову к лежащему у нее на коленях свежевымытому белью. Он придвигается ближе. Обхватив двумя пальцами ее открытую шею, притягивает лицо ее к своему. Она поднимает взгляд: на миг ему кажется, будто он глядит в кошачьи глаза, настороженные, страстные, жадные.