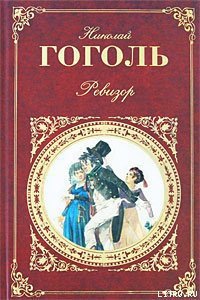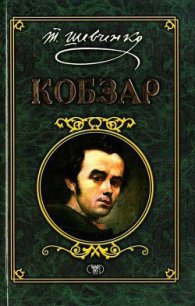Попутчики - Горенштейн Фридрих Наумович (книги без регистрации .txt) 📗
— Это, — говорит, — ваши фамилии?
В афише было написано не Семёнов, по-русски, а Семенив — по-украински. И моя фамилия по-украински — Чубинець.
— Вы, — говорит следователь, — украинцы, и признавайтесь во всём.
— Что украинцы, — говорим, — признаёмся, а об остальном не знаем, в чём признаваться.
Мы с Леонидом Павловичем почти одинаково отвечали. Тогда следователь начал расспрашивать про спектакль, и я понял, что это главное обвинение. Леонид Павлович толково ответил, без растерянности, хоть внешний вид имел плохой, что в спектакле его заставил играть бургомистр под угрозой концлагеря. И он согласился не ради себя, а ради слепой сестры, которая без него сразу бы погибла.
— Почему же сразу, — ехидно спросил следователь, — сейчас, когда вы не немцами, а нами арестованы, она же живёт, не погибает.
На этот вопрос следователя Леонид Павлович ничего не ответил.
— А вы, Чубинец, — говорит мне следователь, — комедии для немцев писали, развлекали врагов своей родины.
— Не комедию я писал, — отвечаю, — а трагедию, потому что жизнь моя не комичная, а трагичная. Я о себе писал.
— Ладно, — говорит следователь, — раз вы оба упорствуете, посидите немного в обществе. Может общество вам объяснит правильное поведение в тюрьме.
И посадили нас с Леонидом Павловичем в общую камеру с уголовниками. Я был прилично одет, чисто, Леонид Павлович ещё лучше, и уголовники сразу предложили нам поменяться с ними одеждой. Но, не дожидаясь нашего ответа, дали показательный урок на одном офицере, военном в хромовых сапогах и чистой форме. Ему также предложили поменяться, он отказался. Тогда уголовник ударил его кирзовым рваным сапогом, каблуком по голове. Офицер потерял сознание, и последовала команда: раздевай. Сняли всё, даже бельё. Когда подошли ко мне, я не сопротивлялся, только попросил дать что-то потеплей. Так же поступил и Леонид Павлович. Ему дали взамен вместо пальта (Чубинец сказал пальта, а не пальто), костюма, белья тёплого, сапог фуфайку, тёплые рваные ватные штаны, кирзовые рваные сапоги. Старый бушлат мой уголовники не взяли, а всё остальное тоже заменили своим рваньём. И назвали нас с Леонидом Павловичем молодцами, за послушание. Посидели мы в общей камере с уголовниками недолго, опять нас перевели в одиночки, потому что допросы продолжались. Однажды двери моей одиночки отворились, и вошла красивая, сочная женщина с красными, ярко крашеными губами и большой грудью под гимнастёркой без погон. От её больших, но женственных рук и от её лица приятно пахло хорошо вымытым телом, хорошим туалетным мылом. От этого запаха — у меня впервые за долгое время не по-тюремному забилось сердце и закружилась голова. Женщина ласково смотрела на меня и улыбалась приветливо. Она назвала себя адвокатом и попросила всё подробно рассказать о себе, потому что, как она сказала: я буду вас защищать. Говорил я долго, и она всё подробно записывала. Кончив записывать, она сказала мне ободряюще: самое большее, вам дадут три года. Я очень обрадовался и стал с нетерпением ждать суда. Перед судом опять поместили в общую камеру, но без уголовников. И опять я встретился с Леонидом Павловичем. Гладкого с нами не было, да мне, честно говоря, его и видеть не хотелось. Судили быстро. Те, кого уже отсудили, приходили и говорили, сколько дали. Давали по двадцать, по двадцать пять лет. Старика, который песней «Ще не вмерла Украина» встретил советских, судили пятнадцать-семнадцать минут. Был он весёлый, с большим чувством юмора, как говорят, юморной. Когда ему дали десять лет за национализм, он в камеру вернулся и говорит:
— Мне десять лет прибавили к жизни моей. Мне семьдесят пять уже, скоро помирать собирался, а теперь вынужден ещё десять лет жить, чтоб приговор не нарушить…
Все смеялись. Странно, что уныния в камере не было, несмотря на большие сроки. Приговоры были очень суровы и выносились совершенно за пустяки, так что людям это казалось детской игрой. Если бы просто убивали, как делали немцы, или сразу бросали в концлагерь, то всё было бы страшно, но поскольку здесь буква закона всё ж соблюдалась, — надо было давать показания, подписывать бумаги, — то поначалу всё выглядело смешно.
Меня с Леонидом Павловичем привели на суд вместе. Судила тройка: судья и два заседателя. Я искал глазами красивую адвокатшу, которая обещала меня защищать, но её не было. Прокурора тоже не было. Судили нас обоих как политических и обвинили в антисоветчине и национализме. Основным обвинением был спектакль о раскулачивании и моя пьеса «Рубль двадцать». Вызвали свидетельницу, старую артистку театра. О Леониде Павловиче она говорила только хорошее. Обо мне сказала похуже, будто до работы в театре я служил в селе полицаем. Я возразил: немцы хромых в полицаи не брали. Но один заседатель заметил: бывали и хромые предатели. Второй свидетельницей была Леля Романова. Я, как увидел её, сразу засопел и забыл, где нахожусь. Моя партнёрша по премьере выглядела очень хорошо, одета модно, со свежим лицом сладко поспавшей и поевшей женщины. Как позже выяснилось, Витька, лётчик её, не объявился, и жила она первоначально с полковником танковых войск, а когда его часть ушла на Запад, с военным доктором из госпиталя инвалидов Отечественной войны. Судья задал Леле вопрос:
— Что вы можете сказать о Семёнове?
Ответила:
— Хороший человек, остался в городе из-за слепой сестры, не мог бросить её. В театре работал, чтоб не уехать в Германию.
На вопрос обо мне сказала:
— Честный, отзывчивый парень.
И рассказала о случае с советскими военнопленными, который наблюдала. В последнем слове подсудимого Леонид Павлович сказал:
— Виноват, что играл в спектакле, и ещё виноват в том, что остался жить. Нужно было повеситься. Жить было необходимо из-за слепой сестры. Но за всеми моими действиями идеологической платформы не было.
Дали последнее слово мне, но я думал о Леле и потому молчал. Судья спросил:
— Подсудимый, вы отказываетесь от последнего слова?
Я ответил:
— Да.
Но тот заседатель, который говорил о хромых предателях, задал мне вопрос:
— Чубинец, почему вы родину не защищали?
— Я хромой, — говорю, — к военной службе не пригодный.
— Но руки у вас есть, — говорит заседатель, — в горло немцу вцепиться могли.
— Руки у меня слабые, — говорю, — хрящ не передавлю.
— Тогда зубами в горло.
— А я брезгливый, — говорю, — чужое горло в свой рот взять не могу.
Вдруг от тоски по Леле во мне какая-то весёлая злобность проснулась. Ведь самоубийцы тоже разные бывают, одни веселятся перед концом, другие плачут. А конец вскоре наступил. Суд ушёл на совещание. Через три-четыре минуты вышли и объявили приговор: Семёнов — десять лет усиленного режима в северных лагерях, Чубинец — семь лет лёгкого режима в местном лагере. Однако когда отправляли эшелон в лагерь дальнего северного поселения, почему-то вместе с Семёновым вызвали и меня. Ехали до места назначения две недели в общем вагоне с уголовниками. Правда, после суда нам разрешили свидание с близкими. Слепую сестру к Леониду Павловичу привела соседская девочка. Сестра была старше Леонида Павловича на двенадцать лет и когда узнала, какой у него срок, то очень плакала и сказала:
— Я тебя больше не увижу.
Свидание длилось три минуты, и, кто знает, может она его действительно видела в тот момент вполне ясно маленьким красивым хлопчиком, а себя видела невестой, которой была ещё до слепоты. Ко мне на свидание приехала из села тётка Степка. У Степки тоже было горе — её окруженца арестовали. Военный доктор дал в госпитале заключение, что с той осколочной раной, какая была у окруженца, вполне можно было пройти тридцать километров, расстояние, на которое от места ранения окруженца в то время отступили советские войска. Моё свидание длилось дольше, чем у Леонида Павловича, может потому, что приговор мне был мягче, и за семь-восемь минут тётка Степка успела сообщить и хорошую весть: от Миколы Чубинца, её мужа, получено письмо с фронта и теперь, раз уж окруженца не вернёшь, надо ждать Миколу. Тётка Степка в нашей семье была самая практичная, недаром ещё до коллективизации она уехала на комсомольскую стройку. Я со Степкой из заключения переписывался, а потом вдруг застопорило. То ли мои письма перестали доходить, то ли она не отвечала.