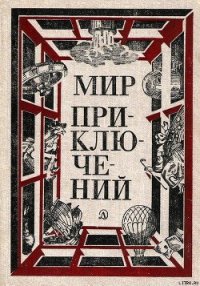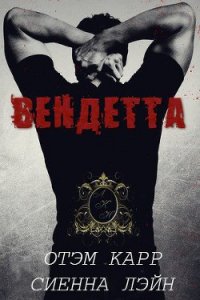Некто Финкельмайер - Розинер Феликс Яковлевич (читать книги онлайн бесплатно полностью без .txt) 📗
— Слушай меня, Манакин, внимательно, — сказал я ему. —Посмотри на этот журнал. Ты умеешь читать по-русски?
— Плохо умею.
— Попробуй прочитать, что здесь написано, вот здесь.
Он не без труда, но все же прочитал вслух о малой народности, которая прежде была вовсе без письменности, а теперь дожила до появления собственного поэта.
— Так вот, Манакин, это про тебя.
Он смотрел с полнейшим непониманием. Битый час пришлось ему объяснять, что Айон Неприген — отныне его второе имя, что я перевел на русский язык ту песню, которую он распевал в столовой. Манакин постепенно приходил в себя. Наконец сказал:
— Два имя хорошо. Долго жить буду.
С этой минуты он начал немного соображать. Правда, в какой-то момент его глазки снова беспокойно забегали, — это когда я сказал, что ему придется ехать со мной на важное собрание и там выступать. Он опять решил, что его там будут ругать за какую-то провинность. С трудом мне удалось растолковать Манакину, какая это высокая честь — участвовать в собрании писателей и поэтов.
— Большие люди будут? — спросил он.
— Да, да, Манакин, большие! Понимаешь? И ты теперь тоже большой человек.
Он понял. Он поверил мне. И я увидел, как быстро Манакин становится большим человеком. Он напыжился, подобрался, голова его приобрела странную неподвижность, будто намертво влилась в плечи, он даже попытался нахмурить свой гладкий, блестящий лоб.
— Манакин согласен, — величественно изрек он и начальническим перстом указал на стихи: — Говори, что ты здесь написал.
По-видимому, он брал меня своим ученым секретарем.
— Смотри, первое стихотворение, — это то, которое ты тогда пел. А остальные я присочинил, прибавил, чтобы получилось больше. Но они похожи на первое, я сейчас их тебе прочту.
— Хорошо сделал, — снисходительно похвалил меня начальник. — Я буду слушать.
И когда я прочитал ему все, что было напечатано в журнале, он ошеломил меня:
— Много старался, — холодно произнес он. — Манакин это лучше пел.
— Что ты врешь? — возмутился я. — Ты мне пел только то, что вначале. Я же тебе сказал, — остальное мне пришлось выдумывать самому.
Манакин посмотрел на меня с презрением.
— Я все пел. Давно пел, всегда пел. Зверь пел, ружье пел, огонь пел, снег пел, ночь пел, солнце пел, дорога пел, дети пел, дерево пел, жена пел. Ты не слышал. Больше тебя пел. Я все пел.
Для него не имела никакого значения форма, способ, собравший все эти понятия в строки, то есть то, что осмысленному тексту дает право называться стихами, поэзией. Условно говоря, в его понимании творчество (он никогда не был знаком, конечно, с таким сложным понятием) заключалось в распевании слов, означающих ряд явлений, событий, действий в том мире, где он жил. И если те или иные слова встречались в его песнях, значит, он «все это пел», то есть сочинял те самые стихи, которые сочинял и я тоже. При этом он вовсе не имел в виду свой приоритет и совершенно не думал оспаривать какое-то тонгорское первородство этих моих стихов. Просто он умел петь о том же, и то, как он умел это петь, ему нравилось больше, чем прочитанное мною. В общем, у нас начинался спор о том, что же является сущностью искусства, а как это, собственно, всегда и бывает, такой спор к самому искусству не имел никакого отношения. Я не стал Манакину возражать.
— Скажи, что я буду говорить с большими людьми? —спросил он.
— Говори о своем народе, — посоветовал я, так как примерно представлял себе, что захотят от него услышать на совещании. — Расскажи про тайгу, про охоту, про свой совхоз.
Манакин как воплотился однажды в большого человека, так уже никогда не выходил из этой роли. Собрание сибирских писателей стало его первым триумфом. Кто-то, не разобравшись, даже обозвал его народным поэтом и основоположником литературы на языке тонгор. Простой охотник благодаря мудрой национальной политике стал теперь известным поэтом — этот тезис в различных вариантах повторялся многими из выступавших. Манакин молча слушал, аплодировал вместе со всеми и выглядел очень мудро.
— Слово предоставляется тонгорскому поэту Айону Непригену, — провозгласил председатель.
Манакин с достоинством прошествовал к трибуне.
— Кругом тайга. В тайге — т'нгор, люди, — сказал Манакин. Он умолк, не находя, что говорить еще, но продолжал при этом мудро, задумчиво смотреть в зал. Литераторы переглядывались, покачивали головами, цокали языком: вот уж начал так начал, без всяких надоевших дежурных фраз! Словом — народный поэт, сразу видно.
Внезапно Манакин вскинулся всем корпусом, руки его взлетели, он крикнул: «Ш-шь-ух!» И зал вздрогнул, — настолько точна была эта имитация ружейного выстрела.
— Мех добыл, — как ни в чем не бывало, объяснил Манакин. — Т'нгор хорошо теперь будет. Деньги есть. Спирт есть.
Литераторы Сибири недоумевали только одно мгновенье. А потом рассмеялись и восторженно зааплодировали. Так непринужденно шутить! Такое себе позволяет только великий Шолохов! Да-а, будь ты хоть семи пядей во лбу, а коли не живешь с народом, в гуще его, самой его жизнью, то, брат!.. Манакин невозмутимо пережидал. Всеобщее ликование он принял как должное.
— Много меха т'нгор. Ай'н пр'иге значит, большая охота была, — продолжал Манакин. — Теперь дорога идет. Песня приходит.
Он закрыл глаза, послышался глухой топот его ног, скрытых трибуной и, как можно было понять, переступавших там, будто тяжелой походкой шел человек с охоты. Переступая, покачиваясь, тряся головой, Манакин запел.
Потом он не раз и не два повторял этот эффектный номер и отработал его с мастерством, достойным любого артиста Малого театра. Но тогда это была живая картина, Манакин увлекся и отдался ей целиком и в течение нескольких минут пребывал в состоянии экстаза. Кончил он неожиданно: один из резких высоких звуков внезапно прервался, певец перестал раскачиваться, открыл глаза и сообщил:
— Т'нгор дом пришел.
С этого дня началось феерическое возвышение Манакина. Он перестал идти по той дороге, которая служит метафорическим символом жизни: символом жизни Манакина отныне стала лестница, и он за четыре года успел высоко забраться. В свой совхоз он вернулся членом союза писателей. Манакин сразу же вступил в партию и некоторое время провел в центре округа на каких-то курсах. После курсов — он уже заместитель директора совхоза, а еще чуть позже его забрали в райком на партийную работу. Не знаю, умеет ли он еще стрелять зверя. Пить, я думаю, не разучился, но делает это теперь с большой осторожностью, свою репутацию большого человека старается не ронять. Что же касается литературы, то он по обоюдному молчаливому согласию принимал условия, с которых у нас начиналось: я публиковал под именем Айона Непригена все, что считал нужным, а он получал гонорары и мне на сберкассу переводил половину. Иногда мы виделись — в Москве, когда его присылали на писательский съезд, на совещание или пленум; встречались и здесь, вот как в этот раз, — обсудить кое-что, поговорить, как ты понимаешь, о красотах поэзии и ее высокой роли… Но все! Больше я его не увижу.
Никольский налил в пустые рюмки.
— Что же у вас происходит, Арон? Очень миленький брак, Финкельмайер — Манакин. И чудесный ребеночек — Айон Данилович или Аронович, — кто вас там разберет. Но что же ваша семейка — разваливается? Почему?
— Мой дружок заартачился в самый неподходящий момент. Ты же слыхал, он теперь завотделом культуры. Он хитрая бестия и не такой уж дурак, каким кажется.
— Я это заметил, — вставил Никольский.
— Вот-вот. Он стал осторожничать и, конечно, не зря.
Манакин чувствует, что чересчур вознесся, а чем ступенечка повыше, тем сильней грызня, ему недолго и сорваться. Он боится теперь всего на свете и в том числе всех этих наших с ним поэтических дел. Ведь сам-то он не написал ни строчки по-тонгорски, и в любой момент кто-нибудь, если захочет его спихнуть, может этим Манакина стукнуть. А его песнопения — они хороши для простого охотника, завотделом культуры не выйдет теперь на трибуну изображать, как стреляет охотник. Да он и забыл, наверно, когда в последний раз устраивал такой спектакль… Так что Манакин здорово трусит, а мне самому эта история противна с самого начала. Конечно, я увлекся тем, что называю «непригенским стилем», мне нравилось при тех скупых средствах, какими я с самого начала себя ограничил, добиваться предельной непринужденности, простоты, ясности. Несколько десятков непригенских стихов — единственное, что мне дорого из написанного, — пока. Это всегда так: сперва дорого, потом ни на грош не ценишь. Но, по крайней мере, Непригена я печатал — мне это благодаря Манакину удавалось, и мне этого хотелось, — впервые в жизни хотелось, чтобы мои стихи читали. Тут, видишь ли, смешалось многое: Манакин злил меня и раздражал как ничего не стоящая личность; с другой стороны, он был мне необходим, поскольку служил доказательством существования Айона Непригена; и вдобавок, — признаюсь, Леня, он вызывает у меня такую дикую ревность, как если бы я знал, что этот мужик спит с моей дочерью. Понятно из всего этого одно: давно пора кончать. Но вдруг я узнаю: Манакину предложили печатать книгу. Предложили прямо ему, издательство почтой послало ему сообщение, что чуть ли не в этом году хотят выпустить сборник стихов Непригена. А этот кретин ничего не ответил. Время идет; наконец, через Мэтра они разыскали меня. Я обрадовался: будет книга! Все непригенские стихи в нее помещу, ведь, в конце-то концов, они и писались как нечто единое, как цепь вариаций, как замкнутый в себе цикл, — и, если идти от стиха к стиху, то там будет ход Солнца, Луны и Светил над Землей, ход живого — рождение, рост, увядание, смерть, — непрерывность и вечная смена времен. Пусть будет книга, пусть ляжет на стол — и покончено с этим. Но Манакин наотрез отказывается от книги. И никакие уговоры не помогают!.. Единственное, что удалось, — заставить его приехать сюда. Я пригрозил ему, что буду жаловаться в Москве, и он согласился встретиться. Но дальше этого не пошло. Не хочет связываться с книгой, хоть ты его убей. Лишний шум ему ни к чему. Он и так уже на высокой должности. Айон Неприген для него мертв, как мертв и тот Данил Манакин, который, надравшись чистого спирта, заунывно тянул бесконечную песню. Большой человек стал Манакин.