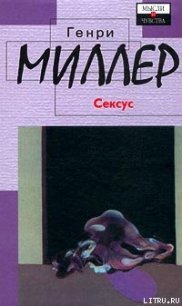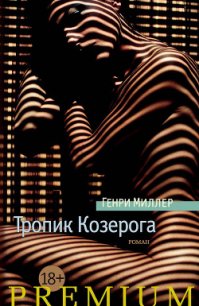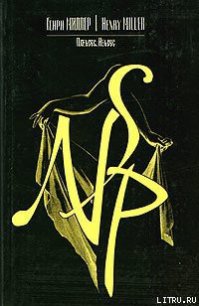Черная весна - Миллер Генри Валентайн (читать книги онлайн бесплатно полностью .txt) 📗
Бруклинский мост… И это жизнь — такое шатание по улицам, освещенные здания, встречные мужчины и женщины? Я смотрю на их шевелящиеся губы, губы встречных мужчин и женщин. О чем они говорят — некоторые с таким важным видом? Не могу видеть людей столь убийственно серьезных, когда мне во сто крат хуже, чем любому из них. Единственная жизнь и миллионы и миллионы жизней, которые нужно прожить. Пока мне было нечего сказать о моей жизни. Совершенно нечего. Должно быть, я не много стою. Следовало бы вернуться в метро, сграбастать Джейн и изнасиловать прямо на улице. Следовало бы зайти еще раз к мистеру Торндайку и плюнуть ему в лицо. Следовало бы встать на Таймс-сквер, расчехлить свой шланг и отлить в решетку канализации. Следовало бы выхватить револьвер и шандарахнуть, не целясь, по толпе. Родитель живет, как Рейли. Он и его закадычные дружки. А я таскаюсь по улицам, зеленея от злости и зависти. А заявлюсь домой, родительница примется рвать душу своими рыданиями. Невозможно уснуть под ее причитания. Я ее просто ненавижу за эти рыдания. Как я могу идти успокаивать ее, если мне больше всего хочется, чтобы она помучилась?
Бауэри… в этот час на его асфальтовых лугах, зеленых, как сопли, резвятся сутенеры, проходимцы, кокаинисты, нищие, голодранцы, зазывалы, бандиты, китаезы, итальяшки, пьяные ирлашки. Все обалделые от поисков чего бы пожрать и где бы завалиться подрыхать. Я все шагаю, шагаю, шагаю. Мне двадцать один, я белый, родился и вырос в Нью-Йорке, мускулист, выгляжу разумным, хороший производитель, не имею дурных привычек и так далее и тому подобное. Запишите это мелком на доске. Продается по номинальной цене. Преступлений не совершал, кроме того, что родился в этой стране.
До меня все в нашем семействе что-то делали своими руками. Я первый ленивый сукин сын с бойким языком и испорченной душой. Я плыву в толпе, слитый с нею. Сшитый и не раз перешитый. Мигают гирлянды реклам — вспыхнут и погаснут, вспыхнут и погаснут. То это шина, то — кусок жевательной резинки. Трагедия в том, что никто не видит выражения безнадежного отчаяния на моем лице. Нас тысячи и тысячи, мы проходим мимо и не узнаем друг друга. Огни дергаются, прыгают электрическими иглами. Атомы мечутся, обезумев от света и духоты. Под стеклом продолжается лесной пожар, но ничего не сгорает. Люди надрываются, ломают мозги, чтобы изобрести машину, которой сможет управлять и ребенок. Если б я только смог найти того гипотетического ребенка, который, предполагается, будет управлять этой машиной, я бы дал ему в руки молоток и сказал: «Уничтожь! Уничтожь!»
«Уничтожь! Уничтожь!» Это все, что я могу сказать. Родитель раскатывает в открытой коляске. Я завидую подонку, миру в его душе. С ним закадычный приятель, в брюхе плещется кварта ржаного виски. У меня на ногах от злобы наливаются волдыри. Впереди еще двадцать лет, и с каждым часом злоба растет. Она душит меня. Через двадцать лет не останется никого из ласковых, милых людей, которые с радостью встречают меня. Каждый мой близкий друг, уходящий сейчас, это бизон, исчезающий навсегда. Сталь и бетон окружают меня. Тротуар становится все тверже и тверже. Новый мир вгрызается в меня, отнимает меня у меня. Скоро мне уже не понадобится имени.
Когда-то я думал, что впереди меня ждет много чудесного. Тем не менее, я строил собственный воздушный мир, замок из чистой белой слюны, который возносил меня над высочайшими зданьями, между реальным и неуловимым, в космос, подобно музыке, где все разрушается и гибнет, но где я был свободным, великим, богоподобным, святейшим из святых. Это я, сын портного, воображал та кое. Я, родившийся от малого желудя с огромного и крепкого дерева. Когда я сидел в своей чашечке, как всякий желудь, мне передавалось малейшее сотрясение земли: я был частью великого дерева, частью прошлого, со своею славой и родословной, со своею гордостью, гордостью. И когда я упал на землю и зарылся в нее, я вспомнил, кто я и откуда пришел. Теперь я потерян, потерян, слышите? Не слышите? Я вою и вопию — неужели не слышите? Выключите свет! Разбейте лампочки! Теперь слышите? Вы требуете: «Громче! Громче!». Боже, вы смеетесь надо мною? Или вы слепоглухонемые? Может, мне сорвать с себя одежду? Может, станцевать на голове?
Ну, ладно! Я станцую для вас! Веселый танец, братья, и пусть она кружится, кружится, кружится со мной! Швырните-ка лишнюю пару брюк, пока вы портняжите. И не забудьте, ребята, чтоб сидели как влитые. Слышите? Пропустите ее! Забавницу и шутницу!
БРЕДТРЕП КРОНСТАДТ
Вот человек, и ум, и музыка…
Он живет в дальнем конце затонувшего сада, этого дикого поля, сплошь заросшего оглоблями и шипами, гималайскими кедрами и баобабами, этого брезгливого Букстехуде в ромбовидных узорах надкрылий жуков и парусов фелюг. Вы проходите мимо сторожевой будки, где консьерж теребит усы con furioso, [51] как в последнем акте «Аиды». Они живут на третьем этаже, в квартире с бельведером, украшенном окошком в частом переплете, лепниной из принявших стойку спаниелей и гроздий жировиков, и полощущимися на ветру нищетой и унынием. Над кнопкой звонка дощечка: БРЕДТРЕП КРОНСТАДТ, поэт-музыкант, ботаник, метеоролог, лингвист, океанограф, старое платье, коллоиды. Ниже предупреждение: «Вытирайте ноги и носы!» Еще ниже прикреплена бутоньерка со старого костюма.
«Что-то есть во всем этом странное, — говорю я своей спутнице, чье имя Дшилли Зайла Бей. — Должно быть, он опять в своем репертуаре».
Мы звоним в дверь и слышим детский плач, раздирающий оглушительный вопль, какой будит живодера, скупщика старых кляч.
Наконец Катя открывает — Катя из Хессе-Кассель, — позади нее, прозрачная, как вода, с куклой цвета старого сухаря в руках, стоит малышка Пинокинни. И Пинокинни объявляет: «Вам придется пройти в гостиную, они еще не одеты». Я спрашиваю, долго ли придется ждать, а то мы умираем с голоду, она успокаивает: «О нет! Они одеваются уже несколько часов. Вы должны взглянуть на новое стихотворение, которое отец написал сегодня, — оно на каминной полке».
И пока Дшилли разматывает серпантин своего шарфа, Пинокинни хихикает и хихикает, ах, я не понимаю, что творится с этим миром, все такое не современное, и не знаете ли вы историю о ленивой маленькой девочке, которая прятала свои зубочистки под матрацем? Очень странная история, отец читал мне ее по толстой страшной книге.
Никакого стихотворения на каминной полке нет, но есть много чего другого — «Анатомия меланхолии», пустая бутылка из-под перно, кусок плиточного табака «Опаловое море», женские шпильки, справочник городских улиц, окарина… и машинка для скручивания сигарет. Под машинкой обрывочные записи, сделанные на меню, на повестках, на туалетной бумаге, на книжечках спичек… «встретить графиню Кэткарт в четыре»… «опалесцирующая джизма Мишле»… «плевки… сокровенные лепестки… туберкулезно-розовы»… «когда Пасха щекочет Приснодеве меж ног, бойся, Англия, подцепить в эти дни трипперок»… «от ихора, что в жилах течет его преемника»… «северный олень, сурок, выдра, водяная крыса».
Рояль стоит в углу, ближнем к бельведеру, — хрупкий черный ящик с серебряными подсвечниками; черные клавиши выгрызены спаниелями. На рояле — альбомы: Бетховен, Бах, Шопен; меж страницами — счета, вещицы из маникюрного набора, шахматные фигуры, мраморные шарики и игральные кости. Если у Кронстадта хорошее настроение, он раскроет альбом «Гойя» и что-нибудь сыграет в до мажоре. Он может играть оперы, минуэты, шотландки, рондо, сарабанды, прелюдии, фуги, вальсы, военные марши; он может играть Черни, Прокофьева или Гранадоса, он может даже импровизировать, одновременно насвистывая, на тему провансальского мотивчика. Но все обязательно в до мажоре.
Так что не имеет значения, скольких черных клавиш не достает и размножаются спаниели или нет. Если звонок не звонит, если уборная не работает, если не пишутся стихи, если падает люстра, если не уплачено за жилье, если вода не течет, если прислуга пьяна, если раковина засорена и тянет вонью из мусорного ведра, если сыплется перхоть и скрипит кровать, если плесень выбелила цветы, если убежало молоко, если в раковине грязь и выцвели обои, если новости не новы и не случается катастроф, если несет изо рта и липки ладони, если не тает лед и продавливается педаль — все ерунда и в душе наступает Рождество, потому что все будет звучать в до мажоре, раз ты привык так смотреть на мир.
51
Яростно (илюл.).