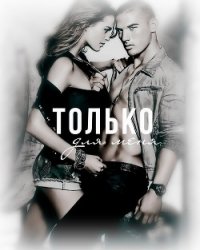В сторону Свана - Пруст Марсель (читать книги онлайн бесплатно регистрация .txt) 📗
К несчастью, разговоры мои с Блоком на эту тему и спрошенные у него объяснения не могли успокоить тревоги, в которую он поверг меня, сказав, что хорошие стихи (от которых я ожидал не более и не менее, как откровения истины) бывают тем лучше, чем меньше в них смысла. Вышло так, что Блок не получил нового приглашения в наш дом. Сначала ему был оказан очень хороший прием. Правда, дедушка утверждал, что каждый раз, как я схожусь с каким-нибудь товарищем ближе, чем с прочими, и привожу его к нам в дом, этот товарищ всегда оказывается евреем, — обстоятельство, против которого он не возражал бы принципиально — ведь даже его приятель Сван был еврейского происхождения, — если бы не находил, что я выбираю своих друзей далеко не из лучших представителей этого племени. Вот почему, когда я приводил к себе нового друга, то редко случалось, чтобы дедушка не стал напевать арий из «Жидовки»: «Бог наших отцов» или же «Израиль, порви свои цепи», ограничиваясь при этом, разумеется, одним только мотивом (ти-ла-лам-та-лам, талим); но я боялся, что мой приятель узнает мотив и вспомнит соответствующие слова.
Еще перед тем как увидеть их, по одним только звукам их фамилии, часто не содержавшим в себе ничего семитического, дедушка угадывал не только еврейское происхождение тех из моих приятелей, которые действительно были евреями, но еще и некоторые досадные особенности, свойственные иногда их фамилиям.
— А как фамилия твоего приятеля, который приходит к тебе сегодня вечером?
— Дюмон, дедушка.
— Дюмон! Ох, не верю я Дюмону.
И он начинал петь:
После чего, задав ряд коварных вопросов по поводу некоторых подробностей, он восклицал: «Будем на страже! Будем на страже!» — или же, если уже пришла сама жертва, которую он вынуждал, при помощи искусно замаскированного допроса, невольно выдать свое происхождение, довольствовался тем, что внимательно смотрел на нее и еле слышно мурлыкал, желая показать нам таким образом, что у него больше не остается сомнений:
или:
или еще:
Эти маленькие странности дедушки не заключали в себе никакого зложелательного чувства по отношению к моим товарищам. Но Блок не понравился моей семье по другим причинам. Началось с того, что он рассердил моего отца, который, увидя, что костюм на нем мокрый, с интересом спросил его:
— Скажите, мосье Блок, неужели погода переменилась и шел дождь? Ничего не понимаю, барометр все время стоял высоко.
Ему удалось добиться лишь следующего ответа:
— Сударь, я совершенно не способен сказать вам, шел ли дождь. Я живу до такой степени в стороне от всяких атмосферических случайностей, что чувства мои не утруждают себя доведением их до моего сознания.,
— Бедный мальчик, твой друг какой-то полоумный, — сказал мне отец, когда Блок ушел. — Как! Он не мог даже сказать, какая на дворе погода. Но ведь это так интересно! Болван какой-то.
Далее Блок не понравился моей бабушке, потому что после завтрака, когда она сказала, что чувствует себя немного нездоровой, он заглушил рыдание и вытер слезы.
— Неужели, по-твоему, это может быть искренно, — сказала мне она, — ведь он совсем меня не знает. Разве что это сумасшедший.
И, наконец, он вызвал всеобщее недовольство тем, что, опоздав к завтраку на полтора часа и явившись в столовую весь забрызганный грязью, он, вместо того чтобы извиниться, сказал:
— Я никогда не поддаюсь влиянию атмосферных пертурбаций, а также совершенно условных делений времени. Я охотно ввел бы в употребление курение опиума или ношение малайского кинжала, но мне совершенно неизвестно употребление часов и зонтика, этих бесконечно более пагубных и к тому же плоско мещанских инструментов.
Несмотря на все это, его приняли бы в Комбре. Он не был, однако, другом, которого избрали бы для меня мои родные; в конце концов они согласились допустить, что слезы, вызванные у него недомоганием бабушки, не были притворными; но они инстинктивно или по опыту знали, что порывы нашей чувствительности имеют мало власти над последующими нашими поступками и над всем вообще нашим поведением и что уважение к моральным обязательствам, верность дружбе, терпеливое доведение до конца начатого дела, соблюдение определенного режима гораздо вернее обеспечиваются слепо действующими привычками, чем этими минутными порывами, горячими, но бесплодными. В роли моих приятелей они предпочли бы Блоку мальчиков, которые не давали бы мне больше того, что принято давать друзьям согласно предписаниям буржуазной морали; которые не присылали бы мне неожиданно корзинку фруктов на том основании, что в тот день они подумали обо мне с нежностью, но которые, не будучи способны наклонить в мою пользу точные весы обязанностей и требований дружбы по простому капризу своего ума или своего сердца, в то же время не могли бы искривить коромысло этих весов во вред мне. Даже наши несправедливости к ним с трудом заставляют сойти с пути долга эти натуры, образцом которых была моя двоюродная бабушка: находясь уже много лет в ссоре с одной своей племянницей и перестав разговаривать с нею, она не изменила вследствие этого своего завещания, в котором отказывала этой племяннице все свое состояние, так как та была самой близкой ее родственницей и так как это «полагалось».
Но я любил Блока, родные хотели доставить мне удовольствие, и неразрешимые задачи, которые я ставил себе по поводу лишенной всякого смысла красоты дочери Миноса и Пасифаи, больше утомляли меня и причиняли мне большие страдания, чем это сделали бы дальнейшие мои беседы с ним, хотя моя мать считала их вредными. И его все же принимали бы в нашем доме в Комбре, если бы однажды после обеда, сообщив мне (сообщение это оказало впоследствии огромное влияние на мою жизнь, сделав ее более счастливой и в то же время более несчастной), что все женщины только и помышляют что о любви и что нет ни одной среди них, сопротивление которой нельзя было бы преодолеть, Блок не поклялся, будто он слышал как-то от лица, в осведомленности которого не может быть сомнений, что моя двоюродная бабушка провела бурную молодость и открыто жила на содержании. Я не мог удержаться от передачи столь важной новости моим родным; когда Блок пришел после этого к нам, его выставили за дверь, и впоследствии, при встречах на улице, он раскланивался со мною крайне холодно.
Ho относительно Бергота он сказал правду.
В первые дни, подобно музыкальной мелодии, которая впоследствии будет сводить нас с ума, но которую мы еще не улавливаем, мною вовсе не были восприняты те особенности стиля этого писателя, которые мне суждено было так страстно полюбить. Я не мог оторваться от романа, за чтение которого принялся, но мне казалось, что я увлечен только сюжетом, подобно тому как в первом периоде любви мы ежедневно ходим встречаться с женщиной на какое-нибудь собрание, на какой-нибудь вечер, будучи убеждены, что нас привлекают развлечения, получаемые нами на этих собраниях. Затем я обратил внимание на редкие, почти архаические выражения, которые Бергот любил употреблять в известные моменты, когда скрытая гармоническая волна, затаенная прелюдия оживляли его стиль и сообщали ему подъем, и в эти как раз моменты он принимался говорить «о несбыточной мечте жизни», о «неиссякаемом потоке прекрасных видимостей», о «бесплодных и сладостных муках познания и любви», о «волнующих ликах, навсегда облагородивших величавые и пленительные фасады наших соборов», выражал целую философию, для меня новую, при помощи чудесных образов, и мне казалось, что это именно они вызвали то пение арф, которое звучало тогда в моих ушах, тот аккомпанемент, которому они сообщали что-то небесно возвышенное. Один из этих пассажей Бергота, третий или четвертый по счету, который мне удалось выделить из остального текста, наполнил меня радостью, несравнимой с удовольствием, испытанным при чтении первого пассажа, радостью, которую я ощутил в какой-то более глубокой области своего существа, более однородной, более обширной, откуда, казалось, были устранены всякого рода помехи и перегородки. Произошло это потому, что, узнав в этом пассаже тот же самый вкус к редким оборотам речи, ту же самую музыкальную волну, ту же самую идеалистическую философию, которые содержались и в предыдущих пассажах, хотя я и не отдал себе тогда отчет в том, что именно они являются причиной моего наслаждения, — я не испытал на этот раз впечатления, что передо мною лежит определенный кусок из определенной книги Бергота, чертивший на поверхности моего сознания чисто линейную двухмерную фигуру; мне показалось скорее, что я нахожусь в присутствии «идеального куска» прозы Бергота, общего всем его книгам, куска, которому все аналогичные отрывки, теперь смешавшиеся с ним, сообщили своего рода плотность и объем, как будто расширявшие пределы моего собственного разума.