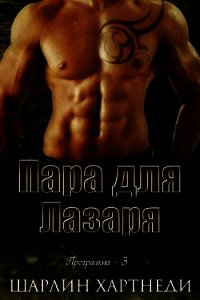Женщины Лазаря - Степнова Марина Львовна (читать книги онлайн без TXT) 📗
Колюшка, видимо, прельщенный грядущими метаморфозами с попой, послушно заткнулся, зато заорала забытая Катюша, и не просто заорала, а швырнула мокрую мочалку и заколотилась в корыте, будто припадочная, обдавая все вокруг белесыми, едкими мыльными брызгами.
Маруся распрямилась, огорченно всплеснула руками, не в силах разорваться пополам и отчаянно желая это сделать.
— Лесик, вы не возьмете Катюшу? Полотенце вон там, на стуле!
— Вот уж увольте, — твердо ответил Линдт. — Не возьму и вам не советую. Она явно чокнутая и наверняка заразная. Я вообще не понимаю, что тут происходит? Какие-то идиоты вас уплотнили? Как только Сергей Александрович позволил! Я сейчас же позвоню в…
— Никто нас не уплотнял, — отрезала Маруся. — Это я сама нас уплотнила. Люди в землянках живут, чуть не на улице рожают, а мы тут… А вы тут… — Она смерила Линдта яростным взглядом. — От вас я такого не ожидала! И вообще — Катюша не заразная, а вот вы — очень даже наверняка. Так что убирайтесь, и чтобы я духу вашего тут не видела. Вернетесь, когда научитесь вести себя хорошо.
Линдт усмехнулся — кое-как, самым краем оскаленного рта.
— Боюсь, этого слишком долго придется ждать, Мария Никитична. Но — как вам угодно. Надеюсь, вы наконец-то счастливы. Жаль только, что святость — это единственное, что вам совершенно не к лицу.
Он вышел, трясясь от злости и унижения и пнув по дороге беззвучную, стремительную, лохматую кошку. Гадость какая, еще и кошку успели завести! А Маруся, молодая, неприбранная, с красными пятнами на щеках, энергично принялась намыливать орущую Катюшу, в общем-то уже совершенно чистую и имеющую самые определенные виды на кашу, которая прела тут же, на плите, укутанная в газеты и байковое одеяло.
— Вот паршивец, — бормотала Маруся, глотая то ли мыльные, то ли свои собственные слезы, — ты только подумай, какой паршивец, а, Кать! Надо же — заразными нас с тобой обозвать… Да на себя бы посмотрел!
Едва живой букетик герани Маруся нашла в коридоре только пару часов спустя и долго реанимировала его, пока не привела окончательно в чувство и не поселила в стакан, на полку. Повыше, чтобы дети не дотянулись. А на третий день пришел просить прощения и каяться побежденный Линдт.
Фактически это была их первая и совершенно точно единственная ссора.
Засилье детей — разного возраста и разной степени запаршивленности — разъяснилось еще до того, как Линдт с Марусей примирились. Взятый в заложники Чалдонов, сам изрядно потрясенный своим новым семейным положением, немедленно признался Линдту, что Маруся сначала буквально притащила с улицы эвакуированную с двумя детьми, потом еще одну — и вы не поверите, тоже с двумя отпрысками, и, наконец, организовала что-то вроде домашнего детсада, и теперь каждый день собирает со всей улицы кучу малышни и возится с ними, пока мамаши обеспечивают фронт всем необходимым. А поскольку заводы неутомимо впахивали в три смены, поголовье детей в квартире Чалдоновых не переводилось никогда, и это просто сумасшедший дом какой-то, Лазарь. Бедлам, Содом и Гоморра. Пеленки, вопли, дерьмо — и все круглые сутки. Но разве Марусю переупрямишь?
Линдт кивнул, впервые в жизни испытывая к Чалдонову что-то вроде сочувствия — оба наконец-то были в одной лодке, оба наконец-то были заброшены и ревновали в унисон, и это давало странное, почти незнакомое Линдту чувство родственного тепла. Шерстяное, душноватое, едва ощутимо приванивающее козлом, оно все-таки было теплом. Линдт даже мимоходом погладил Чалдонова по довоенному, слегка обтрепавшемуся пиджаку и тут же пожалел об этом. Академик, незаслуженно и внезапно лишенный жены, покоя и свежих рубашек, всхлипнул, и Линдту пришлось выслушать дребезжащие и совсем стариковские жалобы по второму разу.
— Не делай никому добра, Лазарь, — сам туда попадешь.
А Маруся действительно было счастлива. То есть она всегда, всю жизнь, даже в самые отчаянные времена, была счастлива — потому что ей повезло такой родиться. Быть счастливой для нее всегда значило — любить, но только теперь, в семьдесят три года, в эвакуацию, в войну, она наконец-то поняла, что любить — не значит делать своим собственным. Любить можно и чужих, то есть — только чужих любить и следует, потому что только так они становятся своими.
Все началось на той незнакомой заснеженной энской улице, и Маруся потом, смеясь, часто говорила, что для того, чтобы найти то, что искал всю жизнь, вполне достаточно просто заблудиться. Она так и не вспомнила, о чем думала тогда, когда спешила вдоль помертвелых домов, пригибаясь и крепко держась за ниточку надсадного детского плача. Кого рассчитывала найти? Подкидыша? Погибающего человеческого щенка? Очередного нерожденного ребенка — ведь Лесик давно вырос, Господи, да как быстро, как все неистово промелькнуло, вся жизнь — и уже не разглядеть, не вернуть самых интересных подробностей.
Маруся нашла окончательный смысл своей жизни только в пятом по счету переулке. Правда, подкидышей оказалось сразу трое, просто двое молчали — видно, то ли не хотели, то ли не могли больше жаловаться и просить. За жизнь сражался только тряпичный сверток, невидимая, но категорически не желающая умирать кукла, лежащая на коленях женщины, которая очень прямо, словно каменная, сидела на крыльце заколоченного выстывшего лабаза. Рядом с женщиной — так же прямо и непреклонно — стоял укутанный драной шалью ребенок, Маруся сразу поняла, что мальчик, — по глазам, по тому, как крепко держал он мать за красную опухшую от холода руку — не защищаясь, нет. Защищая.
— Вы что тут делаете? — спросила Маруся, сама изумляясь глупости своего вопроса, потому что на этой войне все только выживали или погибали, никто не делал ничего другого, и эти двое явно собирались погибнуть, несмотря на все возражения третьего, вот только третий, с головой укутанный в тряпье, несомненно был самым умным — потому что хотел жить. И потому что, почуяв Марусю, тотчас же замолчал, словно выполнил спасительную миссию, словно добился наконец своего.
Маруся сама не помнила, как дотащила всех троих до дома, помнила только, что всю дорогу ужасно, в голос, выла, как не выла никогда в жизни, даже когда хоронила родителей, даже когда поняла, что никогда не сможет иметь детей, даже когда в детстве потеряла стеклянный шарик, огненно-гладкий, такой яркий, что даже немного жидкий изнутри, и у всех, у всех детей были стеклянные шарики, а у нее — не было, потому что мама сказала: не умеешь сберечь, так и поделом.
Наверное, Анеле помнила все подробности этой дороги, но она едва говорила по-русски, да и по природе своей была молчалива до неодушевленности. Хотя, может, и не по природе, а по судьбе, потому что даже Маруся не могла понять — испытывает ли безответную Анеле ее ветхозаветный Бог или просто забавляется маленькой бессарабской еврейкой, как забавляются дети, со скуки мучающие живую, страдающую, теплокровную кошку.
Анеле не повезло тысячу раз. Может быть, даже больше. Она родилась в еврейско-молдавском местечке со смешным названием Фалешты в Бессарабии, которую последовательно считали своей все кому не лень, а не лень было практически всем. Правда, родители Анеле были людьми смирными, зажиточными и не слишком религиозными, так что смышленую девочку отдали учиться в местную гимназию — и по-румынски Анеле говорила прекрасно, легко переходя дома на идиш, это было недолгое время, когда она в принципе говорила, даже болтала и смеялась, но Бог быстро смекнул, что это нехорошо, и родители Анеле умерли один за другим — сперва отца убили за какие-то неведомые грехи молдаване, а потом умерла мать, то ли от болезни, то ли потому, что и правда любила мужа так, что не видела смысла расставаться с ним ни за одним рубежом.
Анеле взял в семью дядя, евреи вообще не бросают своих, ни в радости, ни в горе, их за это и не любят, хотя, по правде сказать, не любят их много за что, список такой длинный, что дебет никогда не сойдется с кредитом, потому что счета выписываются с такой скоростью, что платить, пожалуй, и вовсе не имеет смысла. Все равно выгонят, сожгут или расстреляют. Дядя был кабатчик, держал постоялый двор и трактир, спаивал, жидовская морда, местное население, так что работы было по горло, и Анеле пришлось бросить гимназию, потому что геноцид требовал рабочих рук — надо было подметать, мыть посуду, кормить горластых курей и индюшек, но все равно это была хорошая семья и родная, так что Анеле никогда не ложилась спать голодной, слава богу, каждый ребенок в этом доме был сыт и одет, и достаток был такой, что старое платье не занашивали до дыр, а отдавали старьевщику, чтобы выручить пару лишних бэнуц и пожертвовать их в синагогу.