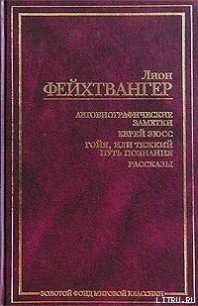Исповедь еврея - Мелихов Александр Мотельевич (читаем книги онлайн без регистрации TXT) 📗
Как-то я влетел передним колесом в яму от бывшего столба. Собираю себя из частей, а на пороге совершенно неподвижно стоит и смотрит девочка-татарка. « У, татарка», – сказал я ей, а она, не шелохнувшись и ни секунды не промедлив, возразила: «Русский – глаза узки». Я потом долго размышлял: ведь это наоборот у нее глаза узки – почему же она говорит, что у меня? Наверно, из-за того, что я не разглядел яму.
У нас не было никакой национальной дискриминации – просто говорили: здесь живут Барановы, а там татары. Да еще ругались национальностями: казахов называли казаками, а обзывали киргизами – смертельнейшее оскорбление, хуже калбита (это «вшивый», что ли, – я не интересовался).
Такая история раз вышла: работали вместе китаец и казах, китаец сбрасывал сверху бревна, а казах оттаскивал. Китаец кричит (обхохочешься!): «Быргыс!» (берегись), а казаху слышится: «кыргыз!» Он психанул и орет: «Китай!» (тоже ругательство). Китаец слышит: «Кидай!» – бросил и зашиб до смерти.
Но гармошка – нет, кажется, это все-таки было по-настоящему мое. Я сросся с ней, когда еще не знал, что это престижно, – это меня и сгубило.
Еще в нечеловеческом статусе меня ослепляла неунывающая и нержавеющая улыбка дураковатого, а тогда блистательного, дяди Паши и оглушала змеившаяся в его руках гармошка, раскинувшаяся, как море, широко. Хотя дядя Паша чаще заводил «Раскинулись ляжки у Машки», – все-таки именно море, раскинувшееся широко, как гармошка, слилось для меня – «раззудись плечо» – с жестом безоглядной российской распахнутости. Другой производитель музыки, солидный Шура, – не толстый, не жирный, а именно полный, только не знаю чем, – вызывал больше почтительности, чем восхищения, что гибельно для искусства. Я уже по его граненым брюкам предчувствовал, что это не нашего поля ягодица, и меха он раскрывал и скрывал обратно без распаха, зовущего к объятию, и на завалинку-то садился излишне опрятно, подстелив газету, – не наша, залетная птица в халупе почернелой одноглазой Маруси, готовящаяся по окончании техникума сняться и лететь в более теплые края. Даже гармошка его звалась «баян» – примерно с такой же деланной скромностью сейчас для меня звучит слово «гармония», хотя гармонией, строго говоря, была именно гармошка.
Шура степенно разводил меха, раскрывая целый гардероб граненых брючек, сверху и снизу защипнутых блестящими чемоданными уголками, и заводил баском (у нас ценились именно баски): «Снова замерло все до рассвета…» Мы замирали в отдалении.
Я от всякой музыки вытягивался, как висельник, и впадал в забытье не хуже кобры перед дудочкой факира, Гришка же заводился вполне по-деловому, по-еврейски (он был страшно заводной, пока не сделался отщепенцем, постоянно напоминающим себе, что кипятиться вредно – снова останешься в дураках, – да и не из-за чего), – и в нашем доме тоже появилась гармошка: ради духовных ценностей папа Яков Абрамович не щадил ни денег, ни трудов. Гармошку прислал нам Посылторг, пахнущую яблоками (то есть почтовым ящиком) и черную, словно маленькое пианино. Выпуклые кнопки поблескивали, как чрезвычайно спелые арбузные семечки.
Это потом, когда я стал человеком и главной моей заботой сделалась забота о престиже, мне уже не нравилось, что звук у нее не мявкающий, как у дяди-Пашиной, а многоголосый и одинокий, словно гудок электровоза, который я однажды слышал на станции и который своей благородной печалью среди истошных паровозов вверг меня в слезы. А тогда я нажимал на кнопку, похожую на макушку негритенка, самого траурного из траурных рядов, долго вслушивался, прижавшись ухом к полированной черной груди, и отрывался от мучительного наслаждения, только когда снова закипали слезы.
Поскольку целые тучи эдемского народа там-сям учились тому-сему – всему гармоничному, — очень скоро Гришка с непривычной покорностью следил, каких макушек (ведущих прямо к струнам души) касается надменный маэстро, умеющий исполнять без басов первую строчку песни «Горят костры далекие». И вот уже сам Гришка вытягивает шею над черными макушками, робко тычет пальцем, и в муках, по изувеченным частям рождается мелодия – что-то в таком роде, если передавать литературными средствами: го..рят… кост…ро – «Ззарразза!..» Гы… рят… – «Черт бы!…» Гу… рют… – «Блин, блин, блин!!!» Го… рят… куст… ры…
Но строчку «Луна в реке купается», начиная с «пается», нужно было продолжить уже самому.
Я едва успел подхватить инструмент, неподъемный, как сундук. Гармошка перешла ко мне, как нервная девушка из хорошей семьи, истерзанная и брошенная лихим гусаром, достается робкому, мечтательному письмоводителю, располагающему только любовью и терпением.
Мне еще не хватало шеи – приходилось косить на кнопки сбоку, будто из-за угла: луна в реке купббб… луна в реке куке… луна в реке купа… Ура! Купа, купа, купа, купа!
Неистово жиреющий кабан рычал за жердями, а у меня, в одном с ним сарае, луна в реке все купается, и купается, и купается. На земляном полу уже давно светится какое-то удивительное пятнышко – я не выдерживаю и, выпутавшись из ремней, подбитых алым, как галоша, накрываю пятнышко сандаликом. А оно – юрк! – уже сидит на сандалике. Я нацелился как на муху – р-раз! А оно опять преспокойненько сидит сверху. Я нагреб навоза, сухого, словно махра, и натрусил на него – а оно на навозе. Я, надрываясь, приволок деревянное корыто – оно на корыте, только чуточку перекосилось. Лишь тут по какому-то наитию я поднял голову и связал дырочку в крыше со светлым пятнышком на земле. Вот так и приходят к Богу…
Но для меня дырочка осталась просто дырочкой, без божества. Вот что касается женщин – там я сумел остаться мистиком: я не умею изменять жене с порядочными женщинами. Да и с непорядочными – только в какой-то разудалой компании, хотя бы воображаемой: когда я исполняю роль, нужную другим, когда я – не я.
А луна все купается и купается, а парень с милой девушкой все прощается и прощается. Глаза у парня ясные – «Как у барана красные», – допел Гришка, просунув в дверь кудлатую, именно что как у барана… нет, барбоса, башку, но я лишь сомнамбулически взглянул на него и снова погрузился в мир расчлененной музыки.
И Гришка притих, скромненько приблизился и присел на корточки (дикие звери, внимающие Орфею). Впоследствии Гришка с гордостью составлял список моих песен, – нам надоело припоминать только где-то в конце восьмого десятка.
Любую песню я ухватывал с первого прослушивания и после одной-двух поправок играл уже без промаха. Даже если я напевал про себя, пальцы сами собой нажимали на воображаемые кнопки: они срослись со мной, а через меня и басы срослись с голосами, хотя сначала все хотели самостоятельности, особенно басы – они больше нуждались в суверенитете, оттого что были примитивнее: «тум-ба-па, тум-ба-па» – это для вальсов, и «ту-ба, ту-ба, ту-ба, ту-ба» – для частушек: «Эх, Подгорна, ты Подгорна, широкая улица».
Мною уже вовсю восхищались взрослые – за то, что я такой маленький. Дедушка Ковальчук, тоже любуясь мною, подпевал: «Как у нашего гармониста чрез гармонь сопля повисла».
– Другие играют пальцами, а он душой! – восклицала Едвига (так мне слышалось) Францевна. Ее подбородок, слегка волнуясь, струился за воротничок… нет, «блузка» – это у мамы, а для одеяний Едвиги Францевны эдемский язык не имел названий: все, что соприкасалось с ней, обращалось в не наше. Рост? – и это было слишком мелко, чтобы создать ее величие, рожденное… Чем же? Ощущением нездешности? Декламацией? Тем, что она не касалась спинки стула, гораздо менее распрямленной, чем ее спина?
«Я видел березку – сломилась она», – надрывал я душу рыданием гармони. Этому надрыву, от трагического восторга покрываясь гусиной кожей, я выучился у безногого нищего, на несколько дней возникшего со своей гармошкой на цементных ступенях гастронома. Я каждый день выпрашивал двадсончик и бежал к нему (удаляться от младенческого микроэдема для меня в ту пору еще было труднее, чем крысе пересечь открытое пространство), чтобы счастливо звякнуть своим подарочком о горсточку других добрых дел («Хпахибо, хынок, дай Бог тебе хдоровья», – страшно хрипел мой гаммельнский крысолов), а затем отдаться, как вода полосам ряби, порывам гусиной кожи, норовившей забраться в самые неприличные закутки, и вместе с тем, как с подступающим наводнением, борясь со слезами, готовыми хлынуть – если заткнуть глаза – даже из ушей.