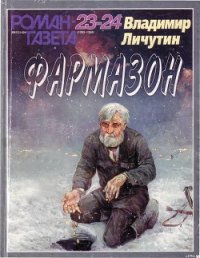Миледи Ротман - Личутин Владимир Владимирович (лучшие книги без регистрации .txt) 📗
...Несчастный, провинциальный художник, угодивший в расцветающий демократический сад, по которому текут молочные реки с кисельными берегами. Да вот не подступись к ним, ототрут плечом да еще и лещей наподдадут под микитки. Как все унизить тебя хотят, стоптать под ноги, будто старую ветошь; опустили глаза в корыто и ну чавкать да подхрюкивать; забыли, лихостники, что живут посреди неумирающей красоты; Гос-по-ди, дай вразумления и силы!
Братилов бросил на Тоську уничтожающий взгляд и, схватив пятерку, выскочил на улицу. Тоська недоуменно пожала плечами и принялась за торговлю.
«Зря взъелся-то», – пожурил себя Братилов, с высокого крыльца озирая потускневшую Слободу в оба конца; снежная пыль сыпалась с пожухлых небес, как бы закатывая городишко в легкий марлевый куколь; домишки огрузли и виделись как бы сквозь прозрачную кисею. Кое-где уже свет забрезжил, работный люд садился за ужну, голубовато маревил, отражаясь на стеклах, мировой дьявол-соглядатай и развратитель.
Самые тяжелые, муторные часы для Братилова: работать уже темно и спать рано, надо как-то коротать время, бороться с приступающей тоскою.
Деревянные мостки хрустят под валенками, воздух прокалился, слегка задымел от топящихся печей, но в нем чувствуется уже неиссякаемый хмель весны; снега, что за день разжижли, развязились, к вечеру прихватило, и от них сочился возбуждающий сердце особенный холодок, молодящий грудь и подбивающий пятки. «Эх, гуляй, рванина, от рубля и выше! Какие наши годы. Еще на душе не скисло и добрецо не свисло. Мужик с мошною – что рак с клешнею».
Гулко, размашисто топоча по мосткам, пронеслась ватажка девчат, обдала запахом молодого невестящегося тела, табачины и иноземных притирок. Оттеснили Братилова ко краю половиц, чуть не свергли в сугроб молодые кобылки, и в наведенных тушью глазах поймал художник уже разбуженную похотцу. Братилов проводил их усталым взглядом и вдруг понял, как безнадежно уже стар он. И умудренно подумал о себе, как о тягловой лошади, окончательно заезженной большой семьею: «Малые детки – малые бедки; большие детки – большие бедки. Вот и смотри ныне, как бы не стала дочи шлюхою, а сын бандитом. Веселые на дворе времена...». Тут распахнулась дверь бара, и на улицу вместе с клубами чада вырвалась шалманная песенка:
Братилов нерешительно потоптался, будто собирался кинуться следом за шалавами. Опутало его легкое наваждение, блазнь вскружила голову; весною всякая козявка бредит любовью, а каково ядреному стоялому мужику, что не горбатится в лесу иль на пашне, держать в смирении тугую плоть, что без суровых трудов постоянно ворошится и напоминает о себе. «Эх-ма! – пристукнул Братилов ногою по скрипучей половице, словно собрался испроломить ее. – Были прежде денечки золотые, а нынче оловянные. В глазах плесень, на языке срам. Как бы так дожить останние годочки, чтобы вовсе не свалиться в скверну?» – «Дурак, молитву позабыл, а об рае хлопочешь», – ответил Небесный Голос.
Через дорогу призывно светились все три оконца в музыкальной избушке часовщика. Малиновый свет от абажура завораживал, невольно притягивал взгляд. Каждый прохожий, наверное, думал: де, вот где счастие земное заселилось...
Братилов околотил у порога валенки, забрел в темные просторные сени, постучал в дверь. «Ктой там?» – строго спросил Митя Вараксин. «Это я пришел», – ответил Братилов, уже прикрывая за собою дверь. «Алешенька, дорогой, проходи, – ласково позвал Вараксин, – гостем будешь».
Братилов привычно оглядел знакомое житье: на всех стенах, на комоде, на подоконниках, на припечном бревне над умывальником и даже на воронце под полатями висели и стояли всякой моды часы и считали время, неумолчно всхлипывали, куковали, звенели, били бои, ковали и токовали, вплетали свой особенный тонявый, глухой иль баритональный голос в неумолкающий оркестр, дирижером которого был сам Творец. Тенькали дверцы гиревых часов, наружу выпархивала птичка и, крутя головою, насмешливо куковала, нагадывала земные сроки. Но скоро захлебывалась, непутевая, и тут же пряталась в своем деревянном ларце, прикрывала гнездышко, в полной темени отсчитывая по памяти следующий упряг. Высокие напольные часы чаще всех напоминали о себе дребезжащим старческим басом, последний бой обрывая стеклянным голоском.
Вараксин в одиночестве сидел за столом, не испытывая никакой печали. Жена Тоська еще не вернулась из продлавки, и часовщик продлевал блаженные минуты рюмкою, закусывая, как говорится в народе, рукавом. У ноги стояла полупустая бутылка, у локтя полная банка чинариков; синий чад непродышливой пеленою слоился над головой мастера, лениво, закуделиваясь в кольца, уплывал в приоткрытую трубу. Баба придет с работы, конечно, лаяться будет, рвать из руки бутылек, грозить разводом, – но схватка житейская станет впереди, а пока в приятстве с художником можно будет скрасить время. Вараксин тянул папиросы одну за другою, и дух этот был особенно тяжким, смоляным, как наждаком, протирал горло Братилова; от умирающего окурка он прижигал следующую «беломорину», пускал сиреневые кольца к алому абажуру, и эту дымную вязь сосредоточенно рассматривал на свет. Часовщик был при параде, в темном отглаженном костюме, в белом свитерке со стоячим воротом: художник пригляделся к хозяину и вдруг нашел его необычно красивым. Сухощекое лицо, благородный пережимистый нос, темные усики над верхней губою, лазоревые, необычного цвета распахнутые глаза и густая челка с седой метиной над присобранным в гармошку лбом.
– Слушай, Митя, ты же красавчик. Я тебя буду рисовать. Ты согласен? – с волнением воскликнул Братилов и, вытянув пред собою указательный палец, прищурился, приценился и как бы решительно вставил обличье часовщика в невидимую раму. – Ну, ты даешь. Я тобой восхищаюсь. Пьешь каждый день по бутыльку, выжигаешь по две пачки этой дряни, откуда в тебе железное здоровье? Ведь лошадь от одной только папиросы отбрасывает копыта. А если сравнить, она вон какая пред тобою, целая гора мяса.
Вараксин внимательно слушал гостя, слюнявил бумажный мундштук и вдруг сказал:
– Я не художник, но и без тебя знаю, что я красавчик. Я это и не скрываю. Бывало, по мне девки сохли. Да вот баба досталась – кошка драная. Разведусь с нею, больно храпит, три холеры – две чумы.
– По габаритам-то не кошка, а целая корова холмогорской породы. Ее в кровати и за сутки не объехать. И как ты справляешься? Железное здоровье надо иметь.
– Справляюсь, соседа не зову. Ты о моем здоровье, Алеша, шибко не волнуйся. Всякому овощу свой срок даден, свое время. Как ни оттягивай гробину, сколько бы фору ни дали тебе родители, а срок-то наступит по небесным часам, а не земным. Я со смыслом живу. Я управляю временем. Я у Господа управляющий, я у времени в сторожах. Я с особым смыслом живу на земле. Не дергаюсь. Не тороплюсь. Как бы вечно мне жить. Понял? Вот Бог и прибавляет мне здоровья с каждой рюмкой. Мне и закуски не надо. Господи, прости! – вот и вся моя закуска. – Вараксин глубоко затянулся папироской. – А ты, Братило, все боялся опоздать. Вот и пил без меры, торопился норму вылакать. Слишком рано выхлебал свою бочку вина, а теперь и дуй на воду. Слюнки-то текут? Текут слюни-то, как вожжи.
Митя ехидно хихикнул, чвакнул вставными челюстями с присосками, поелозил языком, полез пальцем в рот, чтобы достать зубы, но раздумал. Рюмки разогрели часовщика, и мысли, преодолев стопор, закрутились все живее. У трезвого слова зря не вытянуть, молчит, как рыба, а рюмку пригнул на лоб – и откуда у сердешного что берется вдруг: и осанка, и сияние в очах, и слов кишенье.
– Художники тоже у времени при вратах. Не одни вы, – возразил Братилов. – Ты зря нас не пинай. Чтобы творить землю, Бог поначалу измыслил шесть цветов радуги. Бог был первый художник. А вы, ребята боевые, мастера лишь в шестеренках ковыряться да колесики крутить, как малы дети. А мы, художники, время останавливаем. Иль не слыхал? Каждая картинка, даже самая никудышная – это неповторимый отпечаток времени. Нельзя в одну реку вступить дважды. А мы можем, и тут, надо сказать, мы как Боги.