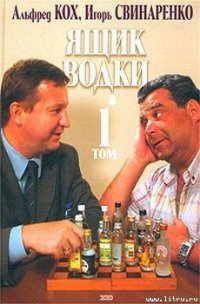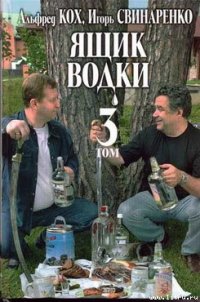Ящик водки. Том 4 - Кох Альфред Рейнгольдович (книги онлайн полностью бесплатно txt) 📗
— Но торговать с Россией, с огромной страной, где огромная потребность купить, купить, купить…
— Для того чтобы купить, нужно иметь деньги. Русские ничего заработать не могут, поэтому они купить ничего не могут.
Ну а здесь-то в чем обида? Вы уж, г-н Минкин, определитесь: либо вы рыдаете над несчастной судьбой нищающего и голодающего народа, и тогда не обижайтесь, что я утверждаю ровно это же — что народ ничего не может купить, поскольку у него нет денег1. Либо обижайтесь, но при этом не лейте крокодиловы слезы относительно бедности нации. Или у вас монополия на констатацию бедности?
Кстати, я не знаю, может, вы не в курсе, но для того, чтобы деньги появились, их необходимо заработать. Хотя для вас это, конечно, новость. Вы так привыкли обличать воров и жуликов, что уже забыли о существовании нормального способа добычи денег — путем труда.
Небольшой пример. Как известно, размер рекламного рынка прямо пропорционален покупательной способности населения. Так вот, при населении в 143 миллиона человек Россия имеет объем рекламного рынка на 20 процентов меньше, чем Польша, население которой — 39 миллионов человек. Вот вам и оценка емкости российского потребительского рынка и заинтересованности в нем производителей товаров. Это сейчас, в 2004 году. Не забудьте же, что здесь говорится о 1998годе, после дефолта. Тогда польский рынок был больше нашего в три раза.
— Словом, вы не видите никаких перспектив?
— Я — нет. (Смеется.) Ну, Примаков если видит, пускай работает (смеется), я, как только перестал их видеть, я уволился из правительства. I (Не он уволился, а его уволили. 11 августа 1997 года вице-премьер России Кох вместе с семьей улетел в Америку в отпуск. А 12 августа внезапно — сообщили о его отставке. 14 августа он вернулся на полтора дня, «сдал дела» и улетел обратно в США. Несмотря на очевидный скандал, Чубайс по привычке врал, что эта отставка — «плановая». Кох же хочет нам внушить, что до увольнения был патриотом, энтузиастом, государственником, потом продал «Связьинвест» и с 12 августа вдруг стал пессимистом и уволился. Вот если найдется девушка, которая в это поверит, Коху следует на ней жениться. С такой доверчивой жить ему будет очень удобно. — A.M.)
Позвольте полюбопытствовать, Александр, а вы откуда узнали, что я с семьей уехал в США? Не иначе прослушку читали! Ай-яй-яй. Как не стыдно. Вам мама в детстве не говорила, что подглядывать и подслушивать нехорошо? Как же вы так, а?
Гусинский установил за мной слежку, прослушивал мои телефоны, записывал все адреса и имена людей, с которыми я встречался. Ничего «такого» не получил. И с досады, видимо, все это вывалил в Интернет, в газеты. Наврал половину, именно половину — для правдоподобия. Так зачем же вы все это читали? Это же неприлично. Что, не удержались? Очень интересно? Слюни текут? А что ж вы тогда против порнографии? Она еще интереснее. И текут не только слюни.
Мне кажется, что любовь к прослушкам и любовь к порнографии имеют одну и ту же природу. Одержимому этой манией человеку хочется увидеть, узнать что-то, что большинство людей считают личным, интимным. То, что не принято показывать всем. И от этого еще острее вожделение. Гормоны клокочут, глаз наливается. Жизнь бурлит!
И не надо мне рассказывать про особый журналистский долг. Про необходимость информировать общественность о частной жизни известных людей. Откуда это вдруг она взялась, такая необходимость? Ну хорошо, допустим, общественный деятель должен быть прозрачен насчет своих доходов. Готов согласиться. Я даже согласен, что те, кто судит и сажает, а также те, кого выбирают, должны быть в частной жизни безукоризненны. Но остальные-то при чем?
Вот я был нанятый госчиновник. Никто меня не выбирал. Я никого не судил и не сажал. Не претендовал на роль морального лидера поколения. Никогда и никого не учил жить (да я и сам толком не знаю, как это — правильно жить). Ну почему если один мудак за мной следил и собирал всякую чушь, то второй, который гений, должен сам копаться в ней и еще и приглашать публику это делать?
Критикуйте, как чиновник работает. Что, аргументов не хватает? Тогда заткнитесь! Ах, нет? Взамен придумано: а вот смотрите, как имярек какает! И такой человек был «нашим правительством»? Вот Ленин, например, не какал. Знаем мы все эти штучки. Нельзя по существу опорочить человека — залезают к нему в постель, в семью, к детям.
Я не настолько наивен, чтобы не понимать, что все эти мои пассажи — впустую. Я ведь для чего это все пишу? А вот для чего: Минкин, не боритесь с порнографией. Вы выглядите не очень убедительно с вашей любовью к замочной скважине. Ах, вы сами не подглядывали, вы в газете прочитали? Так не читали бы, отложили в сторону, раз прослушка. Что, слабо?
Вы ведь почему боретесь с порнографией? Потому, что сами не в силах от нее оторваться. Вот и кричите: «Запретите мне ее, а то я уже работать не могу, сил нет!» Заодно и всем остальным нужно запретить, а то ведь можно и через плечо смотреть, и в бинокль. И нудистские пляжи запретить, а то — тянет. Об этих ваших взаимоотношениях с порнографией, как вы выражаетесь, «легко догадаться».
Только не надо приплетать детей. Этот приемчик мы знаем. Вон в Швеции порнография даже в супермаркетах лежит на самом видном месте, а дети растут нормальные. Так что, Минкин, опять вы только о себе любимом. Как обычно.
Подробности же моей отставки вы, мои дорогие читатели, знаете. Я их уже описал в предыдущей главе «Бутылка 16: 1997 год». Еще раз подчеркну: никто меня не выгонял. Атака началась позже. А в тот момент мне говорили красивые слова про большой вклад. Кто? Например, Виктор Степаныч, глава президентской администрации Валентин Юмашев, Татьяна Дьяченко. Не говоря уже о Чубайсе, Немцове, Сысуеве. Да и пресса первое время меня благосклонно оценивала. Врет опять Минкин. Да и как ему не врать, если Гусинский попросил? Или приказал?
И еще. Уверяю вас, Минкин, я ничего никому не хочу внушить. И потом, опять у вас это странное — «нам». Отвечайте наконец за себя. Вы что, народный избранник? Нобелевский лауреат? Признанный классик? Что вы все время «нам», «мы». Нельзя свои домыслы и фантазии, невежество и злонамеренность прятать за это вот лукавое «нам». Не отождествляйте себя с народом. Поверьте, вы сильно от него отличаетесь. Во всяком случае, мне это заметно.
Мне, откровенно говоря, неудобно убеждать публику в собственном патриотизме. На мой взгляд, это некое подобие эксгибиционизма. Правда, сейчас это модно. Но тем не менее. Мне непонятна логика Минкина, который из моей фразы делает вывод, что я перестал быть патриотом. Я не понимаю, почему у Минкина, да и не только у него одного, патриотизм и казенный оптимизм — это синонимы. Почему нельзя быть патриотом и одновременно, например, пессимистом? Любить и жалеть? Любить и говорить то, что думаешь? Или дозволен только щенячий восторг и ничего больше?
Кстати, патриот с государственником — это не одно и то же. Совсем даже не одно и то же. В некотором смысле, это противоположные веши. Но я боюсь, что это слишком сложно для восприятия Минкиным. Поэтому не буду эту мысль развивать.
Про женитьбу я понял: это Минкин так шутит. Барбумбия киргуду. Шутка. Оценка — «два». Не смешно. Честно. Видно — это не его жанр. Как говорится, если у человека нет чувства юмора, то у него должно быть чувство, что у него нет чувства юмора.
Какой же вы несчастный человек, Александр. Убогость какая-то: одна злоба да пафос. Мне вас очень жалко. Это искренне.
— Как, по-вашему, может повернуться экономическая политика российского правительства? Будет ли возврат к старым методам?
— Какое это имеет значение? Как ни верти, все равно это обанкротившаяся страна.
— И вы полагаете, что никакие методы хозяйствования Россию не спасут?
— Я думаю, что бесполезно.
— Могут ли быть реформы в обычном понимании этого слова приемлемы для России?
— Если только Россия откажется от бесконечных разговоров об особой духовности русского народа и особой роли его, то тогда реформы могут появиться. Если же они будут замыкаться на национальном самолюбовании, и искать какого-то особого подхода к себе, и думать, что булки растут на деревьях… Они так собой любуются, они до сих пор восхищаются своим балетом и своей классической литературой XIX века, что они уже не в состоянии ничего нового сделать.