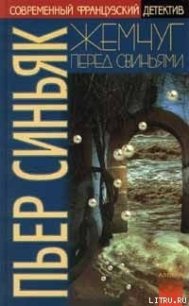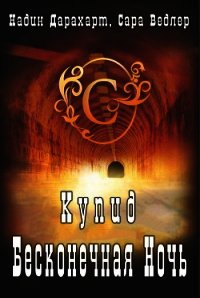Клиентка - Ассулин Пьер (мир бесплатных книг .txt) 📗
— Вы донесли на них…
— Вы ничего не понимаете! — вскричала госпожа Арман. — Вы никогда ничего не поймете!
— Почему бы вам не сказать правду?
Она успокоилась. Ее дыхание обрело почти нормальный ритм. Непринужденным жестом она поправила волосы, словно они растрепались из-за наших бурных дебатов. Она сказала неестественно умиротворенным тоном, опустив глаза:
— Никто не может постичь истину. Никто уже не способен ее услышать. Никто никогда не был в силах ее понять.
Цветочница ушла, а я остался один посреди улицы, как пригвожденный. Поистине, у этой женщины был гениальный дар превращать свои ошибки в загадки. Последнее слово все-таки осталось за ней.
На следующий день я отправился в «Бушприт». Я не сразу решился туда войти. Владельцы подобных заведений не любят одиноких посетителей. Как правило, если для таких вообще находится свободный столик, хозяева, как бы стыдясь, засовывают их куда-нибудь в угол или прячут за колонной. Если человек приходит в ресторан без пары, значит, с ним что-то неладно. Значит, он не такой, как все. В обеденные часы подобный клиент раздражает. В вечернее время от него и вовсе одно неудобство. И в том, и в другом случае он выглядит подозрительно. Одинокий посетитель смущает хозяев, сразу же наводя их на мрачные мысли. Одиночество несет в себе скорбь, способную повредить репутации их заведения. Чужая печаль заразительна, поэтому другие клиенты могут выразить недовольство. К счастью, закон пока еще запрещает владельцам ресторанов не обслуживать одиночек.
Довольно необычная атмосфера ресторана «Бушприт», сохранившего облик старого доброго бистро: хлопчатобумажные клетчатые скатерти; добродушная непринужденность завсегдатаев и столь же естественная вежливость хозяина — развеяла мои сомнения. Я обосновался за одним из столиков.
С точки зрения стратегии это было наилучшее место, позволявшее ощутить пульс квартала. Ничто не предвещало бури. Я расслабился. Но тут появился Франсуа Фешнер. По его задиристому виду, решительной походке и озабоченным складкам на лбу я тут же понял, что он настроен весьма недружелюбно. Едва завидев меня, Франсуа решительно захлопнул книгу, которую я читал, даже не заложив страницы, и уселся напротив. Я чувствовал, что внутри у него все кипит.
— Что все это значит? — проворчал он сквозь зубы и, быстро оглядевшись, убедился, что нас никто не подслушивает.
Мне даже не пришлось ничего говорить. Франсуа и так уже все знал. Торговцы представили ему точный отчет. Объединив их разрозненные рассказы, он получил почти достоверное представление о моих отношениях с госпожой Арман, начиная с самого начала. Но, как и все остальные, мой друг не знал глубинной правды — тончайшей невидимой нити, состоявшей из тысячи и одного скорбного узла.
Франсуа не читал мне нотаций, но его слова сильно смахивали на нравоучения. Он упрекнул меня в том, что я постоянно что-то вынюхиваю, веду дознание, как полицейский, хотя ни одна властная структура не облекала меня какими-либо полномочиями. В определенном смысле мой друг зрил в корень. Кто вручил мне бразды правления? Правильно, никто. Но в конце концов, разве кто-нибудь судит судей?
Под конец монолога Франсуа у меня возникло неприятное чувство собственной вины. Мне было неловко, тем более что мой друг говорил от имени жертв. По его мнению, я страдал психическим заболеванием, из тех, что свирепствуют в определенных кругах и Парижа, и Нью-Йорка. Он назвал меня диаспораноиком, и в его устах это прозвучало не как комплимент.
Франсуа снова стал лавочником с улицы Конвента. Недолго же он пробыл в новом обличье. «Надо вычеркнуть это из памяти», — предложил он. Я возразил, что мне трудно это сделать, так как вычеркивающий карандаш увязает в крови, и дальше мы не продвинулись. Подобное преступление карается только отчаянием. Мой друг считал, что люди, пережившие такой ад, обречены на вечную скорбь и все претензии к ним просто нелепы.
Пытаясь прервать собеседника, я рискнул поднять палец. Тщетно. Протестуя против долга памяти, Франсуа даже не дал мне вставить слова, хотя я был абсолютно согласен с тем, что если память сродни долгу, то с таким же успехом можно предпочесть ей забвение. По мере того как Франсуа говорил, разделявшая нас пропасть непонимания становилась все глубже. Желая, чтобы я запутался в собственных противоречиях, приятель причислил меня к тем эгоцентрикам, зацикленным на еврейском вопросе, которых я всегда осуждал. Он не понимал, что я должен разоблачить эту женщину не как антисемитку, а как доносчицу. Меня притягивала лишь истинная природа Зла — того, которое человек совершает, и того, от которого он страдает, — обе стороны зла были неразделимы.
Никто не смог бы унять безудержное словоблудие Франсуа. Он хотел, чтобы я отказался от своих планов и навсегда поставил крест на клиентке. Не ворошить былое… Он то и дело это повторял. Действительно, речь шла о его родственниках и его клиентке. Он разве что не потребовал, чтобы я послал ей цветы в качестве извинения. Признаться, я даже задумался: не скрывается ли нечто другое за миссией миротворца? Не служит ли она прикрытием для его тайных шашней с дочерью госпожи Арман? Но я прикусил язык, опасаясь показаться бестактным.
Между тем изначально именно Франсуа убедил меня взяться за это дело, он, и никто другой, ведь он жаждал докопаться до сути, ему не терпелось узнать правду — это мне не пригрезилось. С тех пор прошло всего несколько недель, но они были столь насыщенными и напряженными, что могли сойти за годы. Напрашивалась мысль, что Франсуа, очевидно, решил приостановить ход истории, подобно тому как он перевешивал старые, изъеденные молью шубы в комнату, примыкавшую к его мастерской, — меховые манто, забытые или оставленные клиентами, пылились там на плечиках по двадцать с лишним лет. И в том, и в другом случаях их хранили, так как было жалко выбрасывать.
Франсуа также обличал мое двусмысленное поведение. Он отмечал, с каким патологическим наслаждением я совал нос в затхлые отстойники оккупации, с какой готовностью перебирал события минувшей войны, подобно тому как другие копаются в дерьме. Еще он попрекал меня тем, что я начитался книг и насмотрелся фильмов. Я ждал, что друг вот-вот вспомнит «Ворона» [14] — эту старую картину он смотрел всякий раз, когда ее показывали. Мои ожидания оправдались. Я тут же прикрыл рот приятеля рукой и сказал:
— Франсуа, перестань! Я уже столько раз это слышал. Сюжет «Ворона» — не то, что ты думаешь. Он никак не связан с оккупацией. Просто недоразумение, какая-то жуткая чушь, что этот фильм стал символом войны. Подлинная его тема — предательство и страдания, к которым оно приводит: безличная ненависть, безымянный страх и мучительное ожидание. Персонажи «Ворона», возможно, чудовищны, но они — наше зеркало.
— Знаешь, когда был снят фильм? — спросил Франсуа с легким сарказмом. — В сорок третьем году…
— А знаешь, когда был предложен сценарий? В тридцать седьмом. А на чем он основан? На заурядном факте, приключившемся в семнадцатом году. Забавно для кино, якобы отражающего самую суть оккупации!
Франсуа отрицал общечеловеческий смысл этого произведения, на который явно указывали титры; он не понял, что маленький городок на экране мог находиться где угодно; он забыл о сцене с лампой, показывающей игру света и тени в движении маятника, в то время как двое врачей спорят об упадке нравственных ценностей.
Мы погрязли в бесплодных словопрениях. Франсуа допил кофе и откинулся на спинку стула. Наступила пауза. Я нарушил молчание, сострив, но вложил в свою шутку столько горечи, что мой друг, вероятно, воспринял ее как насмешку.
— Жаль, что из-за меня ты лишился клиентки…
Франсуа окинул взглядом каких-то людей, облокотившихся на стойку бара, затем ватагу друзей за одним из столиков, окутанных облаком сигаретного дыма и, наконец, кассиршу табачного киоска, выставлявшую на обозрение свою роскошную грудь; после этого приятель повернулся ко мне и сказал:
14
Фильм А. — Ж. Клузо.