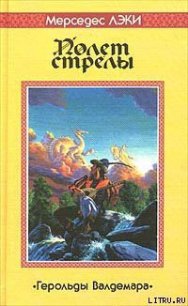Путь стрелы - Полянская Ирина Николаевна (читать онлайн полную книгу .txt, .fb2) 📗
Выслушав Степана, Римма разахалась и бросилась скорей накрывать на стол. Степан поднялся с раскладушки, чтобы привести себя в порядок, причесаться, помыть руки, да и нащипать в огороде какой-нибудь ранней зелени к столу. Когда, обеспокоенная его долгим отсутствием, Римма выглянула в окно, чтобы пригласить Степана к столу, она увидела его лежащим на грядке лицом в острые нежные стрелки молодого лука...
Римма выбежала из дома, перевернула Степана на спину и встретилась с его взглядом, в котором еще теплилась жизнь, сквозь остывающие черты пробивалась медленно истаивающая улыбка, словно за несколько секунд до остановки сердца у него хватило отваги на то, чтоб посмотреть своей смерти в лицо и успеть понять главное — мечта его сбылась и хоть и не совсем таким, как он рассчитывал, способом, но теперь-то он точно останется в Москве, останется навсегда. Зажав в кулаке свежевскопанную московскую землю, он вытянулся на ней слабо и длинно, прижимаясь к ней всем телом, как к матери. Теперь это была его земля, и ничто уже не могло разлучить ее со Степаном.
Хеппи-энд
Мне жалко Олю, ей бы взглянуть на себя хотя бы со стороны румяной вахтерши нашего общежития, бабуси с тонким выражением подавленной хитрости на лице, перед глазами которой протекали наши осененные тенью систематических прогулов молодые годы, чтобы перестать наконец быть смешной, не строить свою беду столь кропотливо на отвесной скале жизни, и без того обрастающей невзгодами, как мхом, не вить несчастье с таким птичьим усердием, не сражаться за него так самоотверженно, как сражаются за свободу на баррикадах. Ведь эти пропасти, в которые она ввергала себя и слушателей, не только темны, но и скучны, они из старых, нудных, заигранных драм. Оля — со своими трагическими глазами, с бесконечным нервным курением в ночных коридорах общежития — крепко брала за горло каждого, шедшего к соседу за щепоткой чая или шариковой ручкой, имевшего неосторожность поинтересоваться, почему она не спит, и на любопытного студента огнедышащим псом, гремя тяжелой цепью, бросалась неподъемная Олина повесть, и студенту становилось стыдно, неловко, и уже не надо было ни чая, ни пера вечности...
Конечно же, предмет ее страсти (именно страсти, рычащей, неукротимой, кусающей себя за хвост) ничего особенного собой не представлял. Предмет он и есть предмет, существо, мягко говоря, неодушевленное, само ни за что не отвечающее, какие к нему могут быть претензии? У Оли они имелись в избытке: уж раз его выбрали, оценили, раздули до размеров героя любовной драмы, заплатили за это первой сердечной маетой, то он обязан был хотя бы задышать, задвигаться, пройтись по сцене гордой поступью, как положено герою-любовнику, а не стынуть бесформенной массой и не дергаться, как арлекин на суровых нитях, простертых от Олиного горячего сердца к его рукам, ногам, голове, печени, позвоночнику... Он, этот Толик, должен был что-то предпринять хотя бы в ответ на битье посуды и разрезание ножницами его единственной приличной рубашки, в которой он собрался уж было пойти на выставку старинной фотографии — без нее, Оли. Толик умудрялся уходить в себя, замыкался в себе на три замка, выставляя стражу в лице приятеля-соседа, с которым они вместе готовились к зачету, окапывался в своем феоде рвом упорного молчания, так что как ни старалась Оля одолеть этот ров и какие ни подбирала ключи к запорам, все было глухо, внутри держащего осаду замка (по сути, необитаемого) только ветер завывал и скрежетали ровные Толины зубы от усталой злости.
Вообще он был выносливый парень, работящий, страстный борец за мизерную стипендию и крохотную подработку ночным сторожем в магазине, перед каждым экзаменом пил валериану, но все равно преподавателям приходилось его успокаивать, так сильно дрожали у него губы, когда он демонстративно усаживался с билетом за первую парту, желая показать, что шпаргалок у него нет, руки — вот они, не рыщут по карманам и в ботинках, как у других, и всегда отвечал хорошо, зубрила, строчил, как швейная машинка, не то что бездельница Оля, учившаяся кое-как. Но никому, кроме Оли, Толины манеры не внушали доверия: ни то, как он щелкал пальцами, подыскивая нужное слово, ни то, как он с задумчивым видом, прищурившись, на скромных общежитских пирушках вдруг начинал набрасывать в блокноте портрет какой-нибудь девушки, возбуждая ее недолгий интерес... На Толике лежал отпечаток какого-то глухого провинциализма, того самого, который нельзя объяснить ничем, даже появлением на свет в дальнем захолустье, но Оля полюбила его именно потому, что она была поверхностно романтична, то есть еще более провинциальна, чем ее предмет.
В Толе поражал его педантизм; он часами обихаживал себя, приплясывая с утюгом над гладильной доской, простаивая на кухне над кастрюльками с супами и приправами, тогда как остальные его сокурсники питались как бог на душу положит. Почему-то никому не приходила мысль хоть чем-то одолжиться у него. Может, Толик и не отказал бы, но к нему не обращались. Он повсюду отстаивал свою исключительность. После окончания лекции любил задерживать педагогов дополнительными вопросами, умно кивая на все их объяснения. На виду у всего общежития любовно заталкивал гуся в духовку или жарил картошку с беконом на сливочном масле, не обращая никакого внимания на соседей по этажу, кругами ходивших вокруг него с голодной музыкой в кишечных петлях, и с каждым годом все больше попадал в зависимость от однообразных, демонстративных привычек, пока окончательно не выпарил из себя все милое, нервное, юношеское.
Оля, у которой кошелек был тощ, но всегда раскрыт для каждого, долго не замечала этих повадок, этого бережного обихаживания самого себя, понимая только одно: ее не хотят. Сливки с нее уже сняты, ее не хотят, и делу не мог помочь даже легендарный папа, про которого она говорила, что это замечательный человек, рьяный садовод, палка зацветает под его руками, и большой любитель поэзии. Вскоре этот папа, вызванный отчаянным письмом, высокий, церемонный, в хорошем костюме, прекрасной рубашке, пленив ту самую румяную вахтершу старомодными манерами и речами, был принят в нашем общежитии. Едва оглядевшись, он отправился на кухню варить курицу и колдовал над нею долго и страстно, как ученый над своими реактивами. Оля полетела к Толику и застала его перед зеркалом за тщательным выравниванием челки. Ей пришлось подождать, пока ее возлюбленный не состриг все, что наметил. Затем Толик вытряс в раскрытое окно полотенце, которым был обвязан, подмел пол, поставил на место стул и продул расческу. Наконец поднял терпеливый взгляд на Олю. Она пригласила его на встречу со своим замечательным отцом. «На предмет чего?» — с не свойственной ему прямотой спросил Толик, и Оля со всего лету ударилась о запертую дверь. С полчаса она уговаривала его, все больше теряясь и чуть не плача, но Толик умел молчать, как партизан. Затем Оля сказала: «Хочешь, я встану перед тобой на колени?» Тут Толик снова разжал губы: «На предмет чего?» Оля набросилась на него, загнав в угол, принялась трясти за плечи; он послушно трясся, совершенно мимикрируя, растворяясь в стене. Тогда Оля привела за руку слегка упирающегося, стесняющегося поставленной перед ним задачи отца... И вдруг мужчины с полуслова нашли общий язык — но не так, как надеялась на это Оля. Они оживленно заговорили о поэзии, о садоводстве, о том, как трудно в наши дни приобрести настоящие семена элитных сортов гладиолусов, причем Толя указал место, где их можно добыть без особых затей, а отец все это аккуратно записал в свою книжку. Голос Толи звучал снисходительно. Между двумя мужчинами шел легкий треп, а не мужской разговор. Толик все-таки спустился этажом ниже, отведал чахохбили, указав на недостаток гранатовых зерен, — и был таков.
К этому моменту Олина история и ее страдания всем приелись, как общежитские обои, они сделались фоном других сюжетов, и Оля, чувствуя это, уже перестала бросаться к каждому встречному и поперечному с душевными излияниями, а Толик переключился на другую девушку, которая ему больше подходила: была тиха, миловидна и домовита. Она обслуживала Толю по всем статьям — и молча, степенно дожидалась своей награды в конце пятого курса. Но после выпускных экзаменов Толе вдруг пришла из дому срочная телеграмма с вызовом на работу, о которой он мечтал. Толик, получив телеграмму, послал девушку купить ему билет, прибрал свою комнату и уехал, ничего не сказав ей на прощание.
![Серебряные стрелы [Серебряные потоки] - Сальваторе Роберт Энтони (книги онлайн бесплатно серия TXT) 📗](/uploads/posts/books/22118/22118.jpg)