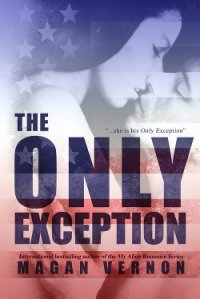Саммер - Саболо Моника (читать книги txt) 📗
Мне казалось, что озерные создания слушали нас, и вообще вся природа прислушивалась, а отец замолчал — он выговорился, но слова его останутся навсегда. И мне даже стало как-то легче, пока я вот так лежал, улавливая лишь дуновение ветра, раскачивающего ветви деревьев; рана на щеке не чувствовалась, тело перестало что-либо ощущать. Меня занимали лишь озерные создания, они извивались, выползали из грязи, их жабры открывались и закрывались, а безлапые тела корчились на берегу.
Наконец отец поднял меня с земли. Я не слышал, как он подошел, он передвигался совершенно бесшумно. Он как-то враз вырос передо мной, рванул сильными руками и отнес на кожаное сиденье, а потом озабоченно склонился надо мной и мягко пристегнул ремнем.
Потом он сел за руль, и мы поехали. Солнце блестело на дороге и в лужах по бокам, в них отражался миниатюрный мир, а сердце мое переполняла любовь к отцу.
Я положил руку ему на плечо.
Маттиас Россе пришел в школу с опухшим глазом и раздутой губой с запекшейся коркой крови, со мной он не разговаривал. Смотрел сквозь меня куда-то в окно или разглядывал карту полушарий над моей головой, погрузившись в собственные мысли.
Я ощущал его присутствие в школьных коридорах, чувствовал, как он смотрит на меня, сидя за мной на уроках, но, когда я набирался храбрости и оборачивался, он уже пересмеивался с соседом или скреб по парте циркулем. Как-то я зашел в туалет и увидел его: он стоял у зеркала, наклонившись над раковиной, и теребил сережку в ухе. Синяк у него под глазом пожелтел и как-то сполз по лицу, отчего Маттиас стал похож на грустного щенка. На нем была выцветшая футболка с надписью AC/DC, обладатель которой в Флоримоне автоматически попадал в категорию нищебродов. Горло у меня перехватило, я хотел подойди к нему, но тут ввалился высокий парень, он расстегнул ширинку и начал шумно ссать, а Маттиас в это время повернулся ко мне, и я отражался в его расширенных зрачках, видел в каждом свое искривленное изображение, и может, он в моих глазах тоже отражался, в общем, я отступил и бросился обратно в коридор.
В июне Маттиас Россе навсегда ушел из Флоримона.
С той кислотной ночи мы не обменялись с ним ни словом. Иногда он кивал мне, вроде случайно, и сердце у меня стучало от радости, но потом он как будто вспоминал, кто я такой, и сразу отводил глаза. В столовой он таскался с Тибо де Празом, старшеклассником с грязными светлыми волосами — его знали все, потому что у него в саду жила гремучая змея. Они проходили мимо меня, сгорбившись и одновременно шаркая ногами, а я вжимался в стул и обреченно перемешивал йогурт. Я чувствовал себя еще более одиноким, чем обычно.
Он ушел, что в очередной раз подтверждало закон Вселенной: люди уходят из нашей жизни. Нет, некоторые остаются навсегда, но другие, в основном те, кого вы действительно любите, испаряются один за другим, без объяснения: вот они здесь, а потом их нет. А жизнь продолжается, жизни нет до этого дела, вся она похожа на примитивный организм из воды и пустоты, который живет в таком же мире из воды и пустоты, — у него прозрачная тупая душа, она только и делает, что толкает этот организм вперед и вперед.
Дальнейшие годы бледны, их покрывает снег, белый и мягкий, покрывает покуда хватает глаз.
Когда я пытаюсь вспомнить, что происходило в 1994, 1995, 1996 и 1997-м, мои ноги начинают мерзнуть, будто под ледяным ветром, и холод пробирает меня прямо до сердца. Доктор Трауб смотрит на меня поверх своих очков — он похож на преподавателя, который терпеливо ждет ответа от туповатого подростка. Я чувствую сонливость, пальцы рук у меня немеют, мне хочется только одного — уснуть.
Я повидал огромное количество психологов. Была некая Шуллер, толстая дама с помятым лицом и таким накрученным шиньоном, что, когда я смотрел на него, у меня у самого начинала болеть кожа на голове.
— Ну, Бенжамен, ты расскажешь сегодня что-нибудь?
Ее улыбка резала, как лезвие ножа.
Я пожимал плечами. И мы так и сидели в некоей молчаливой схватке, а про себя я крутил кадры из видеоигр.
Потом со мной работал Катан, специалист по софрологии.[20] Он укладывал меня на грубый ковер, чтобы я как следует расслабился, но этого никогда не случалось — достаточно было просто заговорить об этом, как я напрягался, и мне хотелось заорать или ударить кого-нибудь, может, именно Катана. Он просил меня представить, как воздух проходит у меня через нос, потом идет в горло, потом заполняет легкие, а я видел песок, черную воду или тучи насекомых, мне казалось, что я тону. В конце концов я поднимался с ковра, тяжело дыша. Однажды, сидя в соседней комнате под картинами с изображениями клоунов, я услышал, как Катан — на нем широкие штаны на резинке — заявил, что я специально блокирую эмоции. И услышав тоненький мамин голос: «Иногда мне кажется, что он хочет нам за что-то отомстить», ощутил шок: ничего такого я совершенно не хотел, я хотел только больше их не разочаровывать.
Еще был Копьевски, от него пахло хлоркой или моргом. Он говорил всякие вещи типа «грусть — это дар» и выглядел бесконечно подавленным. У него были глаза навыкате и кожа как из картонки, что делало его похожим на пираний, украшавших его рабочий стол. Казалось, его вместе с сушеными рыбками погрузили на несколько недель в тазик с соленым раствором; у них была одинаковая горькая складка в уголках рта.
Еще в памяти сохранилась дама, которая работала с эмоциями. Она просила меня снять футболку, потом укладывала на кушетку, покрытую пестрой тканью из Южной Америки, и дотрагивалась до спины своими ледяными пальцами. Из-под двери дуло, и мне думалось, что это дыхание беременных, которые ждали приема в соседней комнате, они казались уставшими и враждебными.
Ровно через год после исчезновения сестры мать пригласили на телевидение. Я испытал шок, когда узнал, что во время расследования у полиции появлялись зацепки: телефонные звонки, свидетели, которые вроде как видели сестру в Невшателе[21] или в Цюрихе, но потом следы обрывались. Еще меня удивило, что пригласили мать, а не отца, хотя именно он привык к публичным выступлениям, именно он умел отстраненно и приветливо улыбаться, благодушно подстраиваясь под собеседников; но на швейцарскую программу для франкоговорящей аудитории в прямом эфире пошла мать, мать, которая месяцами не произносила имени Саммер, да и вообще о ней не говорила, но когда я увидел по телевизору ее фотографию, на которой у нее были розовые губы и щеки, на которой ей чуть больше лет, чем пропавшей дочери, фотографию, которую я никогда не видел, — кто дал им ее, у кого появилась мысль и желание поискать такую старую фотографию? — меня стало морозить, у меня закружилась голова от восхищения перед журналистским чутьем; они знали, что делали.
Я смотрел на мать на экране телевизора. У нее был идеальный макияж; она скрестила ноги, спокойно положила на колени руки — руки, которые иногда сами собой начинали жестикулировать, что помогало ей закончить предложение. Она выглядела элегантно на фоне огромного лица Саммер на заднем плане и словно появилась из ее рта или снов.
Ведущий, красивый загорелый парень с уложенными волосами, казался до смешного юным. Он поглядывал в записи, опуская голову, потом смотрел на мать, наклонялся вперед, словно намереваясь растянуться у ее ног:
— Госпожа Васнер, кажется, вы в первый раз выступаете после исчезновения вашей дочери, которое произошло ровно год назад.
Мать кивнула, она была похожа на маленькую заблудившуюся девочку, освещенную прожекторами.
Глаза у нее блестели, она нервно перебирала складки юбки, и от этого хотелось сжать ее в объятьях или заорать.
Журналист — у него были белоснежные блестящие зубы — говорил о фактах, о ложном следе, о «невыносимой тайне», а мать кивала, и ее маленький волевой подбородок подрагивал. Казалось, она полна благодарности, за то, что журналист проговаривает все те мысли, которые она слишком долго держала в себе. Он произносил имя сестры — «Саммер, Саммер», — бесцеремонно бросая его в никуда, бесконечно повторяя, словно знал ее лучше нее самой, словно прожил последний год вместо нее.