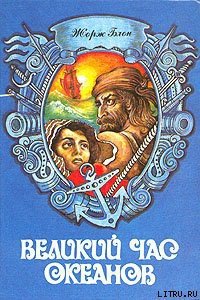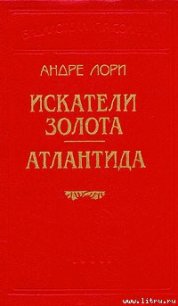Мотель «Парадиз» - Маккормак Эрик (онлайн книги бесплатно полные .txt) 📗
Он недвижим. Медленно он открывает глаза и улыбается ей. Она улыбается в ответ. Публика одобрительно ревет, крик бьется о стены пещеры и, вырвавшись, мечется по окрестным джунглям.
Но мужчина вдруг запрокидывает голову; его тело содрогается, как у змеи, он закатывает глаза и роняет голову на грудь.
Женщина начинает выхватывать вертелы из обмякшего тела; сверкая, они падают на пол. Зрители помогают ей распутать узлы. Они кладут тело на сцену, как сморщенный пергамент, пытаясь прочесть его кровавое послание.
8
Корда поднялся крик, мой приятель сказал мне: – Пабло, врачи тут уже бессильны.
Он был прав. Адвокат-врач-дантист одним из первых сбежал к сцене – он был здесь в том числе и на такой случай. Но Делио был мертв. Бездыханен, как камень. Он лежал в яме «Ла Куэвы» перед пятисотенной толпой, мертвый.
Печальная история. Хотя многие бессердечные игроки неплохо подзаработали на его смерти. Говорят, агухадос всю жизнь испытывают терпение судьбы до конца, и те, кто ставят против них, рано или поздно выигрывают. Но даже им было его жаль. Мой приятель сказал:
– Пабло, нет ничего хуже этого. Страх, которым мы ежедневно питаемся, становится горше, когда умирает такой человек, как Делио.
Что же до Сеньоры, она была не из тех, кого легко утешить. Всегда чувствовалось, что она знает о жизни больше, чем любому из нас доведется узнать, поэтому что мы могли сказать ей? Сам я ничего не стал говорить; надеюсь, она поняла.
9
Когда Пабло Реновски на этом остановился, я все еще не почувствовал связи. Может, витал в облаках, увлеченный рассказом. Даже то, что он не раз повторил, что Сеньора – гринго, не произвело на меня впечатления. Женщины-гринго в те времена встречались здесь ненамного реже, чем мужчины-гринго. Нет, понадобилось, чтобы он произнес:
– У нее был акцент, как у тебя.
Меня, до тех пор ничего не подозревавшего, как громом ударило. Я мог в точности предугадать его следующие слова. Но я доиграл свою роль:
– Что ты имеешь в виду?
– Сеньора. У нее был акцент, как у тебя.
Теперь это был своего рода ритуал или спектакль.
– Да? А как ее звали, не вспомнишь?
– Не испанское имя. Делио звал ее Эсфирь. Она мне говорила свою фамилию, Мак-что-то, не помню.
– Не Маккензи? Эсфирь Маккензи?
– Маккензи, точно. Эсфирь Маккензи. Откуда ты знаешь? Слыхал о ней раньше?
Я внимательно наблюдал за ним, ожидая любого неверного движения. Но это каменное лицо, эти голубые глаза были такими невинными. Я не думал, что Пабло – из тех, кто любит присочинить. Я считал, что он может только вспоминать и рассуждать. Я себя чувствовал боксером, отправленным в нокдаун соперником, за которым до сих пор не числилось нокдаунов. Я мог только одно – постараться не выдать ему, как удивительно мне снова услышать это имя. На этот раз я не сомневался, что Эсфирь Маккензи – одна из патагонского семейства. А еще я теперь твердо верил, что Амос и Рахиль Маккензи, на которых я наткнулся раньше, – тоже. Невероятно. Почему это все происходит? Почему я узнаю о них, да еще при таких странных обстоятельствах? Почему я узнаю об Эсфирь Маккензи здесь, от этого человека?
Я попытался и, думаю, мне удалось сохранить на лице непроницаемую маску, когда он рассказывал о похоронах Делио и о том, что сделала Эсфирь Маккензи на следующее утро, едва проснувшись…
10
… ЕДВА проснувшись, в шесть утра, она подумала: эти попугаи разбудят и мертвого своими воплями. Мертвого. И вот, она в постели одна. Она вспомнила вчерашние похороны на жаре, опечаленные физиономии, стерильную красную землю кладбища с порослью надгробий. Элегантность гроба не могла обмануть даже скорбящих, не говоря уже о муравьях, которые уже ползали по его крышке, чувствуя внутри гниль.
Не открывая глаз, она спустила ноги на пол. Она не желала видеть ни второй подушки, ни носков изношенных сандалий, все еще торчавших из-под кровати, – никаких атрибутов его жизни. Она не желала видеть комод с его фотографией, где он обнимает ее одной худой рукой. Не желала вспоминать его имя. Но в голове у нее так и звенело: «Делио! Делио! Делио!»
Она приступила к своим ежедневным ритуалам: таинство вдыхания запаха мыла, таинство вытирания полотенцем, таинство застегивания черной юбки, таинство заправляния белой блузки за пояс, таинство обувания туфель, таинство расчесывания и закалывания длинных волос, таинство накрашивания глаз и губ, таинство изучения лица в зеркале, таинство убирания последней непокорной пряди, таинство придирчивого осмотра Эсфири, готовой отправиться в дорогу.
Она спустилась, осязая, как прохладная древесина перил бежит сквозь ее руку, осязая каблуками гладкий кафель, прохлада к прохладе. Приложила пальцы к ручке входной двери, гладкой и тоже прохладной на ощупь. Открыла дверь и вышла на веранду, уже осязая тепло в утреннем воздухе, тепло, предвещающее, как обычно, долгий жаркий день. Весь мир был перечеркнут длинными тенями – весь, кроме солнца, порождавшего тень, но лишенного ее.
На улице было тихо. Рыбаки давно ушли в неспокойное море за утренним уловом. Она пожелала им удачи, как всегда. Через полчаса должен был подняться ветер. Она нашла толстую пеньковую веревку, аккуратно свернутую у ротанговой кушетки на веранде, спустилась с ней по трем ступенькам во двор, осязая, как грубое волокно покусывает ее мягкую ладонь.
Машина была припаркована где обычно, почти касаясь передним бампером старой пальмы. Пальма с побуревшими от старости листьями поднималась выше дома. Она играла роль старого слуги, научившегося гнуть спину перед взбалмошными хозяевами – ветром и солнцем.
«Великолепно», – подумала женщина.
Потом она положила веревку на землю возле машины, открыла водительскую дверцу, высвободив запах старой кожи и машинного масла, и скользнула на сиденье, почувствовав бедрами его утреннюю прохладу. Ключи уже торчали в зажигании, покачиваясь, потревоженные ее тяжелым телом. Она убедилась, что рычаг автоматической коробки передач на месте, прежде чем повернуть ключ. Мотор зарычал, потом гавкнул, словно запертая собака, возбужденная перспективой непредвиденной прогулки.
Она дождалась мягкого урчания и опять вышла на дорожку. Подтянула один конец пеньковой веревки к старой пальме, трижды обернула ее вокруг уютного старого ствола и крепко завязала. Другой конец отнесла к машине и провела его в крохотное треугольное окошко в дверце спереди. Потом скользнула на сиденье и захлопнула дверцу. Она втянула большую часть веревки внутрь машины и с помощью металлического ушка на конце сделала петлю – достаточно широкую, чтобы в нее вошла голова.
Потом откинулась на сиденье и перевела дух. Подняла петлю и надела на голову, аккуратно, чтобы не помять ни прическу, ни воротник блузы. Еще раз глубоко вздохнув, положила обе руки на руль и сосредоточилась на предстоящей поездке. Теперь она не чувствовала ничего, никакого страха, только пустоту. Она была благодарна за этот дар – дар пустоты. Она несколько раз ритмично нажала на газ – удостовериться, что мотор не заглохнет.
Она была готова.
В последний раз она взглянула на свою правую руку, и ей показалось, что это чужая рука. Сильные загорелые пальцы сжали рычаг передачи, перевели его на задний ход. Солнце просвечивало сквозь резные листья пальмы, капот сверкал, как огонь. Последний легкий вдох. Потом ее нога поднялась с тормоза и вдавила в пол педаль газа. Машина рванула назад, и к тому времени, как врезалась в белую оштукатуренную стену дома на другой стороне улицы, толстая пеньковая веревка снова ослабла. Но за эту краткую поездку она нагнула старую пальму ниже, чем любой из ураганов, которые та пережила, и протащила голову Эсфирь Маккензи сквозь треугольное окошко, оторвав ее от тела. Так что когда соседи, пошатываясь спросонья, собрались поглазеть, от чего такой грохот, они увидели на дороге длинный кусок веревки с каким-то красным комком – не больше кокоса – на конце и волочащуюся за ним темную гриву; а в машине – обрубок тела, выплевывающий фонтаны крови на ветровое стекло, отражавшее прямо им в глаза утреннее солнце во всем его великолепии.