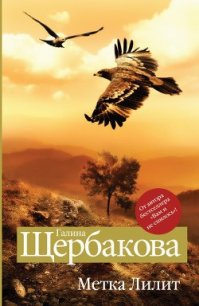Женщины в игре без правил - Щербакова Галина Николаевна (читать хорошую книгу полностью txt) 📗
– Я не валю, – ответила Алка. – Я с тобой соглашаюсь. Не про кучу… А про то, что ничего нет, что на всю жизнь. Ты любила папу, теперь ненавидишь, любила бабушку, теперь завидуешь, любила меня, теперь раздражаешься, что я есть и мешаю. – Елена уже снова готова была кричать и возмущаться, но Алка сказала: – Дай я договорю. Меня любил Мишка, а потом сломал из-за меня палец и разлюбил. Палец у него теперь кривой и не сгибается. Я однажды целый день любила одного типа. Так любила, что хотела ему отдаться. Не дергайся, мама, я же не малолетка. Я так его хотела, что думала, сойду с ума. Прошло… Мне жаль, что прошло… Это было приятно и страшно… И я думала – на всю жизнь… Стала пить пилюли…
– Что?! – поперхнулась Елена. – Ты что такое говоришь?
– Уже не пью, успокойся! – ответила Алка. – И никого не хочу. И не кричи, и не дергайся. И не будем меня обсуждать. А я постараюсь забыть то, что ты мне велела не забывать. Павла Веснина.
Елена понимала одно: она не знает, как вести себя с дочерью. Смущение, гнев, страх, растерянность – все плавно переходило друг в друга, а любовь к дочери – любит же она ее, черт возьми, она у нее одна! – как бы вышла из кома и стоит в стороне, жалкая русалочка, которой земля – эта грубая, колючая, плохо пахнущая твердь – нежные ножки саднит. «Ах ты, Боже мой! – думала Елена. – Мне бы ее обнять, маленькую дуру, а я не могу». Не могу потому, что она уже хочет мужчину. Это меня просто убивает, и все. Я не хочу видеть и знать, как в ней это зреет, набрякает и сочится, не хочу! Я не смела сказать это собственной матери, как-то сама себе прикусывала губу, а эта даже таблетки уже пила. В пятнадцать лет! Хотя теперь все намного раньше и не так, но не до такой же степени, чтобы говорить об этом матери. Ну а кому тогда еще? Подружкам, которые скажут на это: «Хочешь – так дай. В чем проблема?»
Надо сказать что-то умное… Ладно, пусть не умное, думала Елена. Сказать то, что должна сказать мать и никто больше.
– Ладно, мам, – засмеялась Алка. – Я пошла спать. Не мучься, что мне сказать. Если честно, я и без тебя все знаю.
– Не делай глупостей, – тихо сказала Елена.
– Как же узнаешь ее в лицо? Глупость? – печально ответила Алка. – У всех глупостей диплом с высшим образованием. Они тебе такую устроят заморочку…
– Я знаю, – тихо сказала Елена. – Но ты хоть поозирайся, хоть время потяни… Если что…
Если хорошие события зреют от зерна и не спеша, то дурные возникают мгновенно. Если Божьи законы тщательно вплетены в эволюцию и постепенность, то дьявол предпочитает сломанные пальцы, революции, гнойные прыщи и оползни.
Каждое свое.
Однажды утром жена Кулачева Катя проснулась с ощущением неправильности жизни. Во-первых, она уже давно просыпалась и засыпала одна. Кулачев «как бы ремонтировал» квартиру, оставшуюся ему в наследство от дядьки, а если и появлялся, то спал на диване, ссылаясь на то, что ему нужен открытый балкон, а Катя как раз ночных задуваний боится. Конечно, это все брехня, но еще вчера была убеждена – перемелется. Ну ходок, ну делов… Это, в конце концов, у всех кончается, «мальчик-неваляшка» не вечен в своей прыткости, когда-нибудь да не вскинется. Ну походит Кулачев по экстрасенсам, ну помассируют его чьи-нибудь юные пальчики, но он не секс-гигант, а главное – не идиот, он нормальный, хорошо поношенный мужик и, когда надо будет выбирать, выберет здоровье. Катя говорила себе: «Подожди, дорогая, он скоро ступится».
Но в это утро она проснулась с червем в чреве. Червь нудился в подреберье, покусывая скользкое и твердое дно у сердца, и Катя решила на всякий случай выяснить, кто эта новая пассия мужа, замужем она или нет, а главное – может ли она родить Кулачеву ребенка? Это был самый болезненный момент исследования, потому что Катя понимала: случись завязь, Кулачева не удержать, не остановить. На ее глазах происходило его знакомство с израильским сыном, на ее глазах возникло то самое ранение в сердце, которое Кулачев скрывал от народа. А Катя выследила и выведала. Она даже с Симой познакомилась, чтоб проверить, не грозит ли ей что-то с этой стороны. Но это был сплошной смех – многодетная шумливая немолодая еврейка, которая обожает мужа зубного врача, детей-красавцев и внука. «Боря, нет слов! Если есть на свете ангелы, то это – он».
Катя тогда даже жалела Кулачева: хороший дядька, а с бабами промашки… Собственно, Катя своим путем пришла к давнему диагнозу, который поставила Кулачеву мать: «Мимо счастья».
Но это было когда? Сын и первая жена. Еще ранней зимой. А сейчас вовсю июль, Кулачев не спит дома и как бы уже и не собирается. Червь ухватил губами мягкий и сочный конец легкого – сколько вкуснот, оказывается, в человеческом теле – Катя поперхнулась воздухом и вышла на тропу войны.
Если бы боевая разведка была сложной, ее имело бы смысл описать. Но секрет был таким неспрятанным, таким полишинельным, что уже к вечеру этого Дня Червяка Катя знала все. И кто, и где, и сколько лет…
Последнее было нокаутом и даже как бы искажало образ Кулачева. «Да я просто сдохну, – сказала себе Катя, – если у меня мужа уведет старуха. Просто сдохну».
Червь вылизывал ей пищевод и все норовил высунуть головку в горло. Катя терла себе шею, чувствуя как бы удавку.
Она позвонила Кулачеву и попросила «поночевать дома». Кулачев согласился, хотя собирался делать другое.
Квартира, которая досталась ему от старого дядьки, партийца и принципиала, уже была почти готова, чтоб в ней жило новое время. Он отдал соседям старую мебель, тихонечко снес на помойку огромное количество брошюр – дядька много лет был лектором-общественником. Он выбелил квартиру в самый белый из белых цветов, такой, что без намека на холодную голубизну, он отполировал паркет и поменял двери и оконные рамы. Захламленная малогабаритка как бы раздвинулась в стенах, и он ждал момента, когда приведет сюда Марусю. Вот почему ему позарез надо было сделать еще одно дело. Посреди комнаты стояли в достаточном количестве бюстики великих и не очень революционеров. С ними что-то надо было делать, и Кулачев собирался отвезти их куда-нибудь за город и честно похоронить. Его чуть-чуть корежило от этой идеи, получалось, что он как бы дважды хоронил дядьку, он этого не хотел, он по-своему любил старика, но не оставлять же это металло-гипсовое наследство, которое само себя опровергло. Он приглядел место, где можно совершить захоронение, даже нашел огромный старый чемодан, который должен был стать гробом. Поэтому приглашение Кати очень уж было не в пандан.
– Такого унижения я не снесу и не допущу, – сказала ему она, когда он приехал домой, поел, попил чаю и стал перебирать старую обувку, ища такую, которую после того, как он зароет чемодан, не жалко будет выбросить.
– Чего не допустишь? – спросил Кулачев, находясь в эту секунду очень далеко от жены.
– Ты завел себе бабу, которая годится тебе в матери, и предлагаешь, чтоб я это съела? – Катя не подбирала фразы специально, она это не умела, она человек спонтанный, считала: нужное слово само окажется под языком, и оно-то будет главным.
Но это были фатально не те слова. Кулачев уже не раз прокручивал в голове разговор, которому надлежит стать, так сказать, последним с Катей. Он жалел жену, старался смягчить ситуацию. Поэтому и с квартирой возился, чтобы оставить Кате все как есть. Думал, что надо будет ей помогать, какой там заработок у учительницы школьной биологии? Придумывал, как предложить это необидно, легко. Был уверен: сам факт его ухода ее не потрясет, они давно держатся вместе только по протоколу.
То, что он сейчас услышал, было не просто отвратительно и хамски, это меняло положение звезд на небе. Кулачев даже дернулся, когда из-под его ног ушла земля, и он, оставаясь на месте, был уже и не там, а где, он еще не знал. И он был нем и беспомощен.
Тут надо сказать, что Кулачев это в себе ненавидел. Он знал, что это в нем есть – готовность подчиниться и покорствовать собственной неуверенности и растерянности. Такой у него отец: распластанный собственным характером. Зная бесполезность выкручивания рук и ног у природы, Кулачев приспособил недостатки к делу, к пользе. Его неуверенность принималась за тщательность отбора решений, а растерянность – за специфическое чувство юмора. Столбенеет, мол, он нарочно. Для смеха. Такой у него стиль.