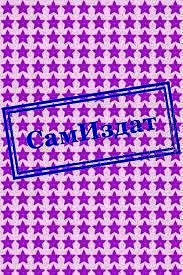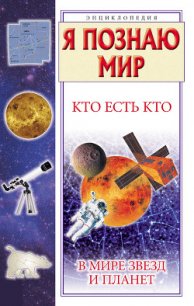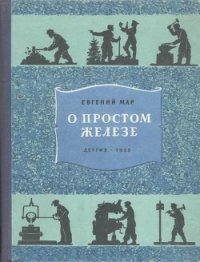Из чего только сделаны мальчики. Из чего только сделаны девочки (антология) - Фрай Макс (читать книги онлайн без .TXT) 📗
8. Вот поэтому я стою на главной аллее Приморского парка пгт Черноморское и вот, пожалуйста, рассказываю это всё девушке-сигаретному промоутеру. «Поэтому» — в смысле, потому что здесь всё осталось таким же и всё изменилось, и разница между «таким же» и «изменилось» понятна только наощупь. Пятнадцать лет перерыва, а после него — приезжаю сюда уже третий год подряд. Ты понимаешь, что за год всё меняется больше, чем за те пятнадцать?
9. Или не так: после пятнадцати лет перерыва ты, в общем, ждёшь, что всё изменилось. А вернувшись в привычное место на следующий год? Нет, на следующий год я лично ожидаю, что ничего не изменится. И первые несколько дней хожу по каком-то другому городу, другому, в смысле, относительно настоящего. Настоящего.
10. Собственно, что я хотела сказать: мне пиздец как страшно, что всё меняется, а я не успеваю вовремя этого заметить. Мой организм генетически модифицирован, он вырабатывает этот страх как особую жидкость. Белёсую такую, абсолютно точно. Если в этом году они наконец-то восстановили пирс (тогда, пятнадцать лет назад, к нему причаливал теплоход, а в прошлом и позапрошлом он был похож на собственный скелет — ржавые рассыпавшиеся трубы, гнилые доски), если его восстановили и убрали забор-сетку на входе — я, пожалуй, закричу, я не могу этого видеть.
11. Однажды мне приснился санаторий для неудавшихся монахов. Все кто там жил, пытались принять схиму в одном каком-то монастыре в горах (Тибет?), а там очень-очень сложные условия, мало кто справляется. Так при этом монастыре (снаружи, недалеко от входа) для несправившихся был построен реабилитационный центр. Назывался «Бедные дети». Проснулась в недоумении.
12. «В случае опасности улитка прячется в раковину. У неё там бутылка водки и пистолет». Старая шутка, но зверски смешная (для меня). Как-то задумалась: а что смешного-то? На самом деле непонятно. Но всё равно смешно.
13. Поскольку у меня нет ни бутылки водки, ни пистолета, ни раковины кроме кухонной, я делаю не так; впрочем, люди вообще редко поступают как улитки (почему-то). Даже в случае опасности. Даже когда совсем невыносимо. Кто-то, например, курит. А я, когда страшно (я же сказала уже, да, что страшно — всегда?), я поднимаю руки и быстро-быстро вращаюсь. И почти вижу, как паутинки белёсого страха выдавливаются сквозь поры и повисают в воздухе, если подставить палочку, можно собрать облако ваты размером с меня. Только не уверена, что стоит её есть.
14. Конечно, девочке-промоутеру я этого всего не рассказываю.
15. (На самом деле, уже столько говорили, писали, и шутили о том, кем притворяются ангелы, когда ходят среди людей, что однажды я думала — вот же. Может быть, и это их «Добрый день, вы курите?» — вовсе не подводка к рекламе марки, например, L&M, если верить её футболке. Может быть, это предварительный соцопрос перед Страшным Судом, почему нет? Потом в моём городе сигаретные промоутеры куда-то пропали, а их место заняли представители мобильных операторов. И они никогда не успевают закончить своё «Здравствуйте, вы пользуетесь услугами мобильной связи?» за то время, что я прохожу мимо. Безнадёжное дело.)
16. На самом деле, я говорю ей:
17. — Нет, девушка, я, к сожалению, не курю. Но вы не унывайте — кто-то ведь наверняка курит.
Потом смерть: слово
Тогда, в самом начале, было одно слово, которое часто повторяли. Как некий общий код, наше тайное заклинание, это слово было, можно сказать, нашей сутью. Слово было — «потом».
(Как кто-то говорит, оказавшись в глупом, дурацком, невыносимом положении — «зато смешно», и утешается: так тогда «потом» означало: «ничего, всё ещё будет, всё успеется — потом», и одновременно с этим: «мы догорающие спички в ледяной пустоте, так что лучше давайте притворимся, что всё ещё будет — потом» и всякое такое.)
Он вышел вслед за мной, чуть погодя, и набросил на плечи куртку. Он всегда так старался заботиться обо мне — куда больше, чем хозяину крепости пристало заботиться об одном воине, не самом сильном и умелом. Может быть, он как-то по-своему меня любил, хотя, по правде, куртка была ещё не нужна: чуть прохладный вечер, середина лета. И в некотором смысле с тех пор здесь всегда середина лета.
Я продолжала смотреть вниз и вперёд: в непрочной тьме от подножия крепостной стены и до горизонта зажигались мириады огней — без системы и узора, группами и поодиночке, и совершенно неясно, что я могла бы там рассмотреть, какую надежду, какое спасение? «Я никогда не дам тебе умереть», — вот что он сказал, но я не обернулась.
— Это просто слова, — но, помолчав, добавила: — красивые слова, спасибо.
«Это не просто слова». «Послушай, если я что-то в этом мире и понимаю, так это смерть» — так и сказал, глупо, пафосно, он вообще-то был помоложе и, видимо, поглупее меня. Независимо от этого он был хозяином крепости, а я — его воином. «Она везде, везде, я вижу. Мы должны ежесекундно воевать с ней, прямо сейчас, или не будет никакого „потом“» — а в голосе: и хорошая, мужская жёсткость; и рядом — гордость за то, что он говорит такие важные вещи, и так хорошо, чётко и жёстко. Он был смешной, а я не улыбнулась.
— Всё это игрушки. — по неизвестным причинам, мне позволялось говорить с герцогом даже в таком тоне. И обращаться на «ты»: — Ты извини, но я вот как раз об этом задумалась: мы всё время про неё говорим, но никто же пока не умер по-настоящему? В смысле, ну, многие штуки немножко похожи на смерть, это даже красиво, но ни ты ни я не видели вблизи, что такое реальное умирание, и мёртвых видели только на похоронах каких-то чужаков, мёртвых как декорацию. Я не думаю, что мы что-то о ней знаем. Но наверное, ещё узнаем потом.
А он не стал даже и спорить, не по мудрости, конечно: он был насквозь из своих книжек, и часто пытался действием, жестом сказать больше, чем могут выразить слова. Он мог, например, сделать так: отогнуть воротник куртки, лежащей на моих плечах, ткнуться губами мне в шею, под волосы, и шептать неестественно отчётливо «мы будем жить, будем жить, никогда не дам тебе умереть», и шарить руками по телу, под одеждой, и ветер был уже прохладный, особенно, когда он задрал мне футболку, и всё было так нарочно, так выдуманно, что я не удержалась и попросила:
— Не надо. Давай потом?
(И это «потом» действительно, всё оправдывало и объясняло. Хлипкую ненадёжную крепость, с навсегда пожелтевшей ванной, ободранными обоями, дырой в дальней стене туалета, из которой приходили любопытные крупные пауки, и кроватью, которую каждый вечер заново приходилось восстанавливать из обломков — потом у каждого, кто сидел здесь ночами, всё равно будет своё жильё. Дурацкие работы, какие-то ночные киоски, лаборантство на треть ставки — потом будут офисы. Полтетрадки, в которой ничего не писали уже полгода — потом кто-нибудь допишет или выбросит её.)
Он молча ушёл с балкона в комнату, где как раз открывали третью. А я осталась, думая о том, что крепость слишком ненадёжна, что раздевшись догола в ванной, где осыпалась штукатурка и ржавые трубы, чувствуешь себя беззащитной. Что замок на входной двери легко открыть ножом, и кто угодно может пробраться в крепость или сбежать из неё. Что при всей неизменной готовности герцога к битве, он поразительно хреново вооружён.
(Вероятно, всё это не имело значения; в каком-то смысле. Хотя бы в том смысле, в котором здесь всегда середина лета.)
Ещё я думала, что он вряд ли действительно хотел быть моим хозяином и полководцем. И даже вряд ли хотел быть моим мужчиной. Всё, чего он хотел, и мог бы даже успеть — быть моим отцом. Баюкать меня, рассказывать сказки, когда я не могу заснуть, вытирать мне слёзы и дуть на ранки, смазывая их зелёнкой, больше ничего.
И долго ещё стояла на балконе, твердила литанию против страха («Когда он уйдет, я обращу свой внутренний взор на его путь. Там, где он был, не будет ничего. Останусь лишь я».») и чувствовала себя Полом Атридесом, которому старуха из Бене Гессерит уже предсказала будущее: «А для отца — ничего».