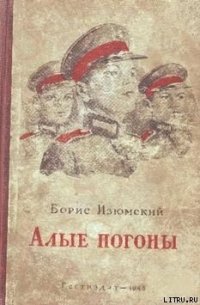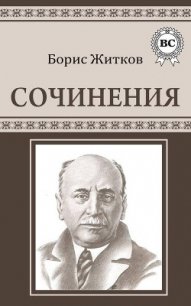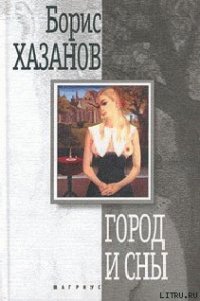Портрет незнакомца. Сочинения - Вахтин Борис Борисович (версия книг txt) 📗
— Уф, — сказал Абакасов, поднимая глаза на Щемилова и снова обнаруживая себя в комнате с четырьмя стенами, потолком и под крылом старого друга.
И тут он заметил, что в углу комнаты, прежде неувиденная, сидит женщина лет тридцати, стройная, как гречанка, черноволосая и яркая и смотрит, улыбаясь бесконечной любовью, на Щемилова.
— Здравствуйте, — сказал Абакасов, вставая, а женщина протянула ему руку, и он эту руку поцеловал.
Петя Гегель, пришедший с Абакасовым, уставился на женщину еще напряженнее, чем на произведения Щемилова, и сказал:
— А вы все время тут были?
— Нет, — сказал Щемилов. — Это все я, чтобы от дохнуть от безобразия, потому что нужна ведь красота несказанная тоже, иначе зачем понимать всех этих оборотней и вурдалаков?
— Как это — я? — спросил Петя Гегель.
— Именем Божьим, именем Божьим, — сказал Щемилов. — Из ничего.
— Это правда? — спросил Петя у женщины.
— А что тут такого? — сказала женщина. — Он все может.
— Постой, — сказал Щемилов, пристально глядя на женщину. — А если так?
И он притронулся рукой к ее волосам, поправляя, и волосы стали белыми, а молодое лицо смотрело на него из-под седины, сияя.
— Нет, — сказал Щемилов со страхом. — Нет. Чур меня, отойди, сатана.
И он снова тронул рукой, и волосы снова стали черными.
— Можно, я завтра принесу вам цветы? — спросил Петя у женщины. — Как бы ко дню рождения?
Женщина сказала, что можно, и дала ему адрес.
— Простите меня, — сказал Щемилов и развел руками и наклонил голову. — Простите, что вижу творение рук Божьих как оно есть, и себя в том числе, отнюдь не прекрасным и не венцом, а как оно есть. Всем русским миром рванулись мы и разбили лицо о стекло, что мерещилось далью, и осколки — вот они здесь, перед вами, такие, как я сумел рассмотреть и показать, в гордыне они и страхе, такие, как есть, самодовольные снаружи, вот что меня пугает больше всего.
— Не бойся, — сказала женщина, и Щемилов спрятал лицо ей в колени, а красота и мир ее рук обняли его плечи.
12. Рынок
Какая толчея на рынке по утрам! Вот, например, Сенной, где сразу за аркой, возвещающей начало торгового мира, распускаются клумбы и палисадники белых и красных пионов, разноцветных, вплоть до перламутровых, тюльпанов, охапок сирени — дворцы стали горячим изнутри пеплом, но не рассыпались в прах, держатся, дрожа, и это сирень, — россыпей ландыша, а дальше, в глубине, вокруг мясного и молочного павильонов, торчат пучки редиски, кровоточит клубника на подносах, пылает крупная дробь черешен, шуршит лавровый лист в пакетиках, на которых запечатлена вся мудрость человечества: и законы Архимеда из учебника физики, и опыт передовых животноводов, и стихи поэта Николая Тряпкина из Смоленска, а порой и такие тексты, что кощунственно их упоминать, дабы не нарушить стройного взгляда на историю и ее ценности у подрастающего поколения. Или, тоже например, Мальцевский, величественный, как концертный зал или собор, где под общий хор присутствующих каждый продукт поет свою особую песню: груды яблок — про зеленую Винницу, чьи ночи душисты и черны, ядовито-желтая алыча поет про роскошь и оскомину кавказских садов, а купоросная зелень огурцов ведет песню про морские водоросли подводного мира, где русалки, дельфины и, конечно, Садко; а над всем господствует человек, царь этой природы, борясь посильно, но со страстью за каждую копейку.
Надменный грузин, морщинистый, как сушеный инжир, обиженно сидит в обороне за весами с персиками, над которыми хоругвью свисает фантастическая цена; румяная, в красном платке плывет над помидорами украинская баба, сама, как помидор, и в плавности ее парения, в поволоке жгучих глаз — вся грусть ее подвала где-нибудь на Молдаванке, откуда снизу вверх глядит она на движущихся мимо людей, не зная, чего ей хочется, о чем тоскует — не то об усатом матросе и зыбкой палубе под ногами, не то о золотом самоваре, а пока, до выяснения, торгуя помидорами рачительно и с толком; блещет неправильностью речи, высоким качеством товара и щепетильной честностью эстонская чета — супруг в серой шляпе, песочной куртке с засученными рукавами, и супруга в вязаной кофточке и вязаном платке, и блестят обручальные кольца на их руках, движущихся в такт и дружных, только рука у женщины белее и крупнее. И деловито на рынке, и забываешь, что в воздухе столько веков уже носится над нашей родиной пугачевщина, готовая взорваться в любой момент.
В этот мир природы и ее мирного царя вошел Абакасов с другом своим Петей, чтобы выбрать букет для подарка новорожденной женщине.
— Знаете, — говорил Петя, — я заметил, она редко улыбается, но когда да, то это да! Как вспышка магния, как проявление мирового духа, к тому же она брюнетка, а глаза зеленые. В общем, я думаю, что она прекраснее Джины Лолобриджиды и умнее Франсуазы Саган. Очень трудно выбрать ей букет.
— Есть два крайних способа составления букета, описанные в литературе, и оба они банальны, — сказал Абакасов. — Один — это скупка подряд, по-купечески, чтобы женщина сама сортировала цветы по вазам и графинам в полное свое удовольствие. Другой — это букет одноцветный, но много, например, охапка красных роз. Мы же создадим в букете портрет ее, я думаю.
Они подходили к парадной ее дома, неся полный портрет, рожденный знанием Абакасова и любовью Пети, — он был велик, этот портрет, где в темных облаках васильков была гроза алых маков и светлой надеждой белели лилии среди плодородной зелени.
Женщина открыла им дверь — и они узнали ее во всем блеске.
— Вчера умер Щемилов, — сказала женщина.
13. Речь, а вернее, слово отца Всеволода над тихо лежащим Щемиловым
В притворе справа орали младенцы в очереди на руках у матерей, орали перед крещением, и это был не первый их крик, а тоже очередной, и молодой поп, похожий на переодетого следователя по особо важным делам — откормленный, с глазами цвета золотой пуговицы, небритый, — в блеске свечей крестил деловито всех этих Александров и Татьян, Сергеев и Наталий, готовя их к вечной жизни, когда, смертью одолев смерть, они перестанут орать и предстанут перед создателем своим, чтобы выяснить наконец, что же все это значило, что осталось позади, и в чем тут замысел, и каково же было их место в этом замысле. Так пожелаем им сказать в ту минуту: «А вот, оказывается, в чем дело!» — и начать далее вечную жизнь, и пусть это не будет мрак и скрежет зубовный — зубов у них, например, пока и вовсе нет, и вообще, они еще очень небольшие, хотя орут куда как громче взрослых.
Много удивительного вокруг, если, повторяю, вникнуть, и Абакасов стоял в храме, удивленно глядя на тихо лежащего Щемилова — лежащего неподвижно, однако с улыбкой, но не с той улыбкой, в которой скачут бесы и с которой слетают, подмигивая, искры взаимопонимания, а с улыбкой просто, про себя, настолько про себя, что даже глаза были закрыты.
Отец Всеволод, лысый и немного полный, с видом хозяйственного мужика, знающего, как что соорудить и куда забить тот бесценный гвоздик, который он держит в зубах, распрямив его перед тем так, что тот стал прямее покупного, отец Всеволод со лбом Сократа и носом, по-славянски скошенным на сторону и задранным природой кверху, сказал такое вот приблизительно слово:
— Предельно велик господь и даже беспредельно велик он, и все перед ним равны — и машинист первого класса, и художник, и даже милиционер, а также равны все народы. Но если попадается такой народ, что не сидится ему на одном месте, что ворочается он с боку на бок вместо того, чтобы спать, как положено; если обуревают его страсти, а на все Божья воля, то указует на такой народ перст Божий, и тогда держись, ибо этот перст всегда крест, и это тяжело, хотя лучшего нельзя и представить. И в каждом народе, включая беспокойные в первую очередь, появиться могут наряду с механизаторами и милиционерами такие люди, как вот он.
И отец Всеволод показал перстом на Щемилова и перекрестил его. А тот улыбнулся.