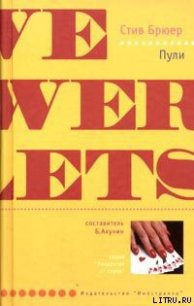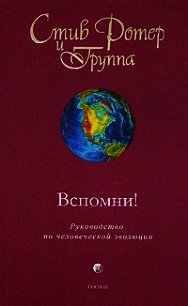Явилось в полночь море - Эриксон Стив (читать книги без .txt) 📗
Когда пришла зима, мы смотрели на Париж с той начальной стадии лихорадки, когда сознание омрачено и все кажется темным, тихие песни из соседней комнаты всегда напоминают эхо, а давние воспоминания, смешавшись с нынешними снами, прошиваются насквозь неразличимыми звуками чьей-то неясной речи. Катаясь по Булонскому лесу, где раньше под летними деревьями проститутки трахались со своими клиентами, теперь мы, глядя на стремительный, как авария, закат солнца и слыша свирепый шум листвы за окном такси, видели погребенные зимой осенние краски румянящейся смерти, сверкающие спермой и снегом деревья. Энджи сидела рядом со мной на заднем сиденье и бессознательно грызла ногти. Потом, взглянув на пальцы, она вдруг нырнула мне в объятия и прижалась ко мне. Среди каменных обломков я стал одержим ею. Среди руин я был и ее сутенером, и ее клиентом, и сам продавал ее себе же. Среди разложения и гниения мне тем более подобало овладевать ею так, как мне этого хотелось. Сквозь кружево занавесок на гостиничных окнах я мог из-за спины Энджи наблюдать за молоденькими девушками в пустующей комнате через двор. В подъездах стоял рок-н-ролл, на лестницах мужчины кашляли, как туберкулезники, водопроводные трубы гудели шумом улиц. У тротуаров журчали канавы. Шепоты 1968 года переходили в вой, шедший от реки, окна хлопали от порывов ветра, головы девушек по ту сторону двора падали с шей, волосы свисали в сточные канавы… а с улицы я теперь мог слышать, как волнами ходят туда-сюда полицейские дубинки, а полицейские обвязали гениталии пустыми канистрами из-под слезоточивого газа и хлещут мертвых революционеров. Банальный и роскошный хаос – рабочие-негры, убитые в Йоханнесбурге 3 июля, бомбы Ирландской республиканской армии в Гайд-парке и Риджентс-парке 20 июля, гранаты, брошенные в кошерный парижский ресторан 9 августа, – все эти события отмечали мое насилие над ней. «Настойчивость», — шипела в темноте Энджи, впиваясь ногтями мне в бедра; сначала я принял это за один из ее дорожных знаков, но это был приказ.
– Будь настойчив, добивайся того, чего хочешь от меня. Заставь меня делать то, что я едва могу вынести, – говорит она, ворочаясь подо мной, рывками вжимаясь в меня. – Заставь меня делать что-то почти такое же плохое и порочное, как я сама. – И я так и делаю, все эти дни, и недели, и месяцы до того самого часа, когда христианские ополченцы в Бейруте начинают беспорядочно резать палестинских крестьян.
– Стон, – вздыхает Энджи в парижских сумерках.
Мы отправились в Лондон и повстречались там с беспутной парой, которая не могла похвастать ничем, кроме денег, наружности и выкрутасов. Южноамериканка среднего возраста и ее молоденький англичанин. Я сразу понял, что все их предложения ни капли не шокировали Энджи, а лишь вызвали у нее скуку. Вскоре она совершенно потеряла интерес к этим фиглярам, да и я пресытился ими, чувствуя нелепым поддаваться их капризам. Кроме того, стоял уже 1983 год, газеты полнились новой убийственной статистикой, новым уровнем смертности желаний.
– Мне нужно вернуться в Нью-Йорк, – сказал я год спустя в «день подарков» на Пикадилли.
– Сожаление, – тихо сказала Энджи, – плач.
Когда она последовала за мной, через пять или шесть месяцев, то ничего не обещала.
– Может быть, на месяц, или на неделю, или на день… – сообщила она по телефону из Лондона, и ее голос звучал смущенно, и поначалу мне показалось хорошим признаком, что она не просто объявила: «Смущение». Получив что хотел, но оставшись с вопросом – действительно ли хочу этого, я задумался, не означает ли ее звонок, что она сдается, что у нее не выходит больше играть роль такой постмодерновой Энджи; может быть, ее инстинкт самосохранения наконец заработал, и она решила, что пора позвонить настоящему профессионалу, который на спасении Энджи собаку съел. Это давало мне контроль над ситуацией – в точности так, как я хотел… Но теперь я также понимал, что спасение Энджи налагает на меня и ответственность — эту мысль я вытолкал из головы в то же мгновение, как она там появилась. А потом, в Нью-Йорке, я увидел, как Энджи заглядывает за каждый угол, прежде чем свернуть, как осматривает каждую тень у каждой двери, прежде чем войти…
Прошло семь лет с исчезновения Тусовки. Девы Хаоса пропали! Разыскивая их, я надеялся выстроить хронологию, построить временную схему, так как в голове у меня больше не звучал хаос и приходилось полагаться на память, хотя я и знал уже, что память – первая жертва нового календаря, что у Календаря будет своя память… Весна восемьдесят шестого – голубая панорама Календаря уже ползла по стенам моей квартиры в Верхнем Истсайде. К тому времени Энджи была со мной в городе уже год, и вот тогда-то я выяснил, что же в Нью-Йорке так пугало ее все время, что вселяло в нее ужас. Это был я.
В день, когда пришло письмо с известием о ее матери, я сидел в кресле у окна, выходящего на Бродвей и Семьдесят первую стрит, а Энджи – за пианино, которое я купил для нее. Я видел, что она не считает его слишком хорошим инструментом. Клавиши потрескались, и я не мог объяснить, почему считаю это достоинством, – ей пришлось бы услышать музыку прошлых лет, чтобы понять. Энджи взяла фальшивую ноту и взглянула на меня, а потом на письмо, и какое-то время оно просто лежало на пианино – будто она каким-то образом догадалась, что в нем, и просто не могла заставить себя сразу вскрыть его. Энджи продолжала ударять по фальшивящей клавише, пока я не ушел в другую комнату и не услышал оттуда, как этот звук замер, паря в коридоре, и это заставило меня снова войти… Насколько я мог понять, ее отец даже не стал сам писать это письмо. Все еще в гневе и в отчуждении, даже в момент траура и печали, он не стал сообщать собственной дочери о печальной новости сам, а предоставил написать за него кому-то другому.
Ну, а чего ты ожидала, Энджи? Чего ты ожидала от отцов в наше время? Чего ты, собственно говоря, ожидала от матерей? Чего ты ожидала от меня? Разве не в этом заключалась наша сделка – не касаться прошлого? Не касаться отцов и матерей? В чем же был наш уговор, если в конце концов нам приходится сталкиваться со всем этим? В чем был наш уговор, если в конце концов я вынужден чувствовать, как у меня разрывается сердце, когда я просто смотрю на тебя, такую неутешную в углу квартиры под этим Голубым Календарем, маячащим над тобой, как морской вал, с этим твоим задрипанным мишкой рядом, как будто он может все объяснить, словно он может дать тебе утешение, которого не могу или не хочу дать я. Так что не надо смотреть на меня так, будто я тебя предал. Не надо смотреть на меня так, будто я тебя бросил. Этот мой паралич был оговорен в условиях нашей сделки с самого первого момента, когда мы встретились в кафе «Липп» на бульваре Сен-Жермен.
Той же ночью мне приснилось, что стены текут вниз, как дождь. Мне приснилось, что Голубой Календарь заглатывает квартиру, как разлившееся в моей голове море, и плещет мне в лицо, пока я сплю. Только проснувшись, я осознал, что стены не текут, что Календарь не превратился в море, а это Энджи плачет на моей подушке. Впервые я увидел, как она плачет. Я чувствовал когда-то, как она крепко прижимается ко мне на заднем сиденье такси, катящего по Булонскому лесу, я изредка ощущал, как усердно ни пыталась бы она это скрыть, ее нужду во мне, которую я никогда не удовлетворял. И только спустя много лет, думая о проведенном вместе времени, и в частности о той ночи, я понял и крепость, и бессилие наших уз; а то, что, как мне представлялось раньше, давало ей столько власти надо мной – доверие, которое я ей оказал, поведав, что случилось со мною в детстве в Париже, – на самом деле свидетельствовало о том, как беспомощно она себя в глубине души чувствовала. Ей нужно было знать мои секреты, не разглашая свои, просто чтобы ощутить: в борьбе со мной у нее есть хоть какой-то шанс. А то, что, как мне казалось, делало ее такой беспомощной, эти слезы на моей подушке, на самом деле свидетельствовало о том, что она приходит к окончательному избавлению от прошлого, больше не отрицая его.