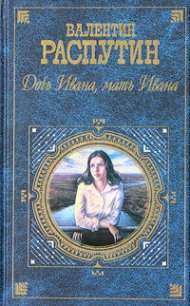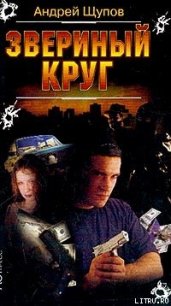Последний срок - Распутин Валентин Григорьевич (читать хорошую книгу TXT) 📗
Так же неожиданно, как возник, крик вдруг прекратился, и вокруг далеко и полно упала тишина. Люся догадалась, что теперь можно идти дальше, воспоминание кончилось, и, тяжело тронувшись с места, направилась все туда же – к пустошке, за рыжиками. Она подумала о рыжиках, как о слабом, но еще возможном спасении: если сорвет хоть один, хоть самый маленький, тогда останется надежда, что все обойдется. А что, собственно, должно обойтись? Чего она боится? Неизвестно. Ничего неизвестно. Она боялась даже размышлять о том, пристало ли ей чего-нибудь здесь бояться, ей казалось, что и мысли ее тоже могут быть кем-то услышаны и истолкованы неверно. Она устала, ноги заплетались, но устала не от ходьбы, потому что и прошла-то пустяки, каких-нибудь три-четыре километра, а от чего-то другого, более значительного, важного, может быть, от воспоминаний, которые, как сговорившись, подстерегали ее сегодня на каждом шагу и заставляли переживать их заново – для какой-то своей, скрытой цели. Казалось, жизнь вернулась назад, потому что она, Люся, здесь что-то забыла, потеряла что-то очень ценное и необходимое, без чего нельзя, но и повторившись, прежнее, бывшее когда-то давно, не исчезало совсем, а лишь отходило в сторонку, чтобы видеть, что с ней сталось после этого повторения, что в ней прибыло или убыло, отозвалось или омертвело навеки – вот они окружили ее и следуют за ней все дальше и дальше: справа, шатаясь от голода и из последних сил волоча за собой по весенней грязи борону, бредет Игренька, слева скачет на черемуховом кусту незнакомый страшный человек в зимней шапке. Там еще и еще.
Люся остановилась. Неправда. Здесь никого нет, ни одной души, которую надо было бы опасаться, она одна. Эти страхи так же нелепы, как шапка на том человеке в жаркий летний день, эта тревога пуста: просто нервы после телеграммы о матери приготовились к беде, к потрясению и теперь требуют возмещения за свою напрасную работу.
Она осматривалась вокруг снова и снова. Да, никого: солнечно, тихо, спокойно. Слишком солнечно, слишком тихо и спокойно, чтобы чувствовать себя в безопасности. Одна, одна, но одна среди чужого затаившегося безмолвия, где все сияние и внимание направлены только на нее. Ей некуда спрятаться, ее видят насквозь. Нет, надо бежать отсюда. «Бежать, бежать», – твердила она. Зачем, ну зачем она вылезла из деревни? Кто ее сюда гнал? Что она здесь забыла?
«Забыла?» – мысль вдруг задержалась на этом слове и придвинула его к Люсе ближе. Забыла… Вот оно, наконец, то, что, не открываясь, с самого начала сегодня томило ее молчаливой давней обидой, помимо ее желания, не давая свернуть в сторону ни на шаг, вело Люсю по местам, которыми ярче всего была отмечена ее прежняя деревенская жизнь, – вело до тех пор, пока Люся не призналась: забыла. В самом деле, там, в городе, она за последние годы все забыла – и воскресники по весне, когда заготавливали дрова, и поля, где работала, и завалившегося Игреньку, и случай у черемухового куста, и многое-многое другое, что бывало еще раньше, – забыла совсем, до пустоты. Она забыла, что когда-то боронила, пахала… Да, боронила, пахала – подумать только! Странно, что и это, не разобрав, она выкинула из памяти, уже этим-то можно бы и гордиться, едва ли кто-нибудь из ее приятельниц ходил за плугом. Давным-давно уже она не трогала воспоминания о деревне, и они затвердели, слежались в одном отринутом неподвижном комке, затолканном в дальний тыльный угол, как узел с отслужившим свое старьем.
И вот сегодня они ожили. К Люсе явилось запоздалое чувство стыда, будто всякий раз при этом ее тыкали носом: помни, помни, помни…, а она не понимала, что с ней делают. Она чего-то боялась. Теперь страх пропал, и после него не осталось совсем ничего, одна тяжелая, гнетущая пустота, которую, казалось, ничто уже никогда не заполнит.
Со слабым удивлением Люся поймала себя на том, что она еще шевелится, откуда-то находит силы, чтобы переставлять ноги.
Лес вокруг полей раздвинулся, встав на свое место, и застыл. Солнце уже не было таким ярким и слепящим, как ей почудилось еще совсем недавно. Все вокруг словно отвернулось от нее, перестало замечать, потеряло к ней всякий интерес, никто, кроме нее самой, не подозревал о существовании ее. И только она все шла и шла.
Наконец, она добралась до пустошки и у края ее остановилась. В пустошке было светло и тихо. С высоких сосен, кружась и играя в густом воздухе, медленно опадали иголки: их чистый, волнующий шелест переходил из стороны в сторону, звучал то слева, то справа. Между деревьями белым ударным дымком тлела паутина, причудливыми пятнами и полосами лежало на земле солнце. Где-то в глубине весело и часто стучал дятел.
Дальше Люся идти не посмела. «Я буду приезжать сюда», – перед кем-то для чего-то оправдываясь и кому-то обещая, подумала она, но уже знала, что не приедет, все сделает для того, чтобы не приехать. Торопясь, она повернула обратно. «Скорей, скорей», – подгоняла она себя, все убыстряя и убыстряя шаг. И только перед самой деревней перевела дух и успокоилась.
Но потом, поздним вечером, после всего того, что случилось еще в этот день, когда Люся вышла на улицу и увидела рясное, как нигде, в звездах небо, ей снова стало не по себе. И снова она, торопясь, укрылась в избе.
7
Наконец-то, к старухе пришла долгожданная Мирониха.
Старуха лежала на кровати так легко и невесомо, что сетка под ней совсем не прогибалась; у старухи дежурили только глаза, а тело, расстеленное на кровати и застывшее в немой неподвижности, оставалось без толчков и забот – как чужое. Не было никакой нужды трогать его: старуха давно уж лежала одна, будто потеряла себя от всех остальных и никак не может найтись. Ближе к обеду солнце с улицы попало в избу, и старуха, глядя на солнце, пригрелась от его веселого неустанного света, а то уж совсем затосковала сама с собой – хоть плачь.
Мирониха, настороженная тишиной в избе, в которую, она знала, понаехали гости, боязливо выглянула из-за перегородки, увидала, что старуха одна, и, вынырнув к ней, всплеснула руками:
– Оти-моти! Ты, старуня, никак живая?
Старуха обрадовалась Миронихе так, что в глазах засверкали слезы и завозилась на кровати, норовя подняться, вспомнила, что подниматься надо долго, и протянула Миронихе поддавшуюся руку.
– Дак видишь, живая. Вторые дни уж, как оклемалась. Тебе рази не сказывали?
Мирониха подержала старухину руку и выронила, но в руке нашлась сила и она сама легла ко второй, к левой руке и приласкалась к ней.
– Тебя пошто смерть-то не берет? – Мирониха присела к старухе на кровать и, говоря, наклонялась к ней. – Я к ей на поминки иду, думаю, она, как добрая, уж укостыляла, а она все тутака. Как была ты вредительша, так и осталась. Ты мне все глаза уж измозолила.
– Ты рази, девка, не знаешь, что я тебя дожидаюсь, – с охотой включаясь в игру, отозвалась старуха. – Мне одной-то тоскливо будет лежать, я тебя и дожидаюсь. Чтоб вместе в одну домовину лягчи.
– Я тебя, старуня, ногами запинаю. У меня ноги вострые, я их всю жисть об землю точила.
– А ты и вправду запинашь, с тебя чё взять.
– О-о. Ты меня не жди, сподобляйся. Я покамест побегаю, и ты ко мне не присуседивайся. Чем с тобой лежать, я лучше какого-нибудь старичка к себе возьму.
– Не присбиривай. Ты мне уж надоела со своими выдумками.
– Это ты мне надоела. Хуже горькой редьки. Скорей бы уж ты померла, чё ли. Ослобонилась бы я от тебя.
– Ишо плакать, девка, будешь, как помру.
– Если плакать буду, дак, думаешь, жалеть буду?
– И то правда, – согласилась старуха, останавливая Мирониху, чтобы – чего доброго! – не договориться до богохульства. С Миронихой недолго и в грех попасть, она и сама не помнит, что говорит. В молодости с ней лучше было не связываться, переспорит кого хочешь, да и сейчас еще язык не сточился совсем, того и жди – выкатит слово не для ушей и не поперхнется.
Мирониха только в последние годы стала посмирней, сядет и прижмется, а то чересчур жила бойкой, сорок дырок на одном месте просверлит и не заметит. Хоть она и жалуется на ноги, а сама и теперь может припустить так, что молодому надо гнаться, и неизвестно еще, догонит или нет. На работу она всю жизнь была жадной и все-таки сбереглась, не дала работе изъездить себя; со старухой ее не сравнить: Мирониха круглей, живей, а главное – на своих ногах, куда захотела, туда и побежала. Короткие черные руки она держит перед собой ухватом, готовая в любую минуту пустить их в дело; лицо тоже черное, широкое; голос хриплый, но любой другой, поговорив с ее, давно бы уж совсем без голоса остался, а она его только вот так подпалила. Она моложе старухи всего на четыре года, но по виду ее хватит еще не на четыре – больше.