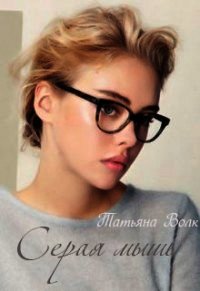Школа насилия - Ниман Норберт (читать хорошую книгу .txt) 📗
Разумеется, Люци, как только немного пришла в себя, стала защищаться. Дескать, дело вообще не в этом, а я опять ничего не понял, фильм просто прекрасный. Но я высмеял ее, право, не знаю, что на меня накатило, я громко расхохотался, когда она сказала, что имеет право на собственные мечты, или что-то в этом роде, и все смеялся, когда она сказала, что ей плевать и что я так думаю только потому, что это голливудский фильм, а я глупый учитель, вот я и завожусь, как все глупые учителя. Я хохотал и не мог остановиться, хотя она просила, умоляла, ругала меня: немедленно перестань, сейчас же, как можно быть таким гадким и пошлым, какой же ты противный. А под конец из ее глаз ручьем хлынули слезы.
Когда мы вышли, я попытался шутливо обнять ее за плечи и притянуть под зонтик, чтобы, как недавно, обнявшись, погулять по пешеходной зоне, но она вырвалась. Между тем дождь усилился, и в потоке прохожих я сразу же потерял ее из виду. Она хочет, чтобы я побегал за ней, чтобы звал, искал, — подумал я. Когда через четверть часа она все еще не появилась, я действительно бросился искать и звать ее.
Люци стояла на трамвайной остановке, промокшая до нитки, и разминала сигарету. «Значит, ты потихоньку куришь», — выдохнул я. Она сделала вид, что меня не существует, я попытался ее образумить. Она, мол, могла бы мне об этом сказать. Она упрямилась. Я уговаривал ее пойти со мной, следующий трамвай придет только через полчаса, она не двинулась с места. Наконец я попросил у нее прощения за все и, осторожно взяв за плечо, мягко потянул за собой.
Я совершенно обалдел, когда она внезапно, словно взбесившись, ударила меня, можешь мне поверить. Мало того, она еще при этом истерически завизжала. Я всячески старался ее утихомирить, наверное, инстинктивно попытался удержать, тогда она снова вырвалась и побежала. На сей раз я преследовал ее по пятам, сохраняя, однако, дистанцию метров этак в двадцать, потому что на нас, конечно же, оглядывались. Это было ужасно, передо мной все время возникали какие-то фигуры, главным образом молодые люди не давали проходу, эй, старикан, оставь девчонку в покое, один даже ухватил меня за воротник новой кожаной куртки.
Этот бег сквозь строй продолжался до следующей остановки, там Люци вошла в вагон вслед за мной. Подожди, у тебя же нет ключа, крикнул я и бросил ей ключ, когда мы снова оказались на улице. Она шла впереди. Я подождал несколько минут, позвонил в домофон, когда тоже добрался до дверей подъезда. Она из квартиры открыла дверь. Я спал и ночью не заметил, когда она пришла и прикорнула рядом.
Левински, Левински, Левински на всех каналах, во всех газетах, Моника и сексуальные домогательства, Моника и сенатский следователь Кеннет Старр, Моника и снимок в приложении к журналу «Slick Willies», Моника и пятно на платье.
Фото: спина Билла Клинтона, затылок, уши, серебряные волосы и широко раскрытый, пухло-губый, приглашающий, сытый, удовлетворенно улыбающийся, властный, вишневый рот Моники.
Твой титр: «Теперь оральным сексом занимаются и в Белом доме».
Наш брат при этом воображает себе скорее толстощекую выпускницу средней школы в юбке гофре и белых носочках. Гордые родители только что доставили ее, готовую на любой подвиг ради блага отечества. И вот отец отечества ожидает ее в своей задней комнате. Правда, его мысли еще заняты бомбами, которые он прикажет сбросить на Саддама Хусейна, но она уже приветствует его торжественными словами: мистер президент, народ вас любит, и я тоже. Но поскольку она, как требует обычай, уже встала на колени и поскольку государственный муж уже начал претворять мечты в действительность, он прямо на месте, как фокусник из рукава, достает этой дочери отечества почетную работу из ширинки своих брюк.
Нет, это не скандал и не бездна падения и уж отнюдь не доказательство гнусности твоей профессии. Да, ты занимаешься постельным шепотом американского президента и химическим составом его спермы, но у тебя нет выбора, таков твой долг, это вовсе не мерзко, просто забавно.
Правда, это немного безвкусно, как-то убого, но ты-то тут при чем. Эта, если тебе угодно, интимная сфера великих людей в общем-то всегда нас интересовала. Будь то мощи святых, по сей день выставляемые на всеобщее обозрение в церквах, будь то экскременты его величества короля Людовика Четырнадцатого, пред коими свита была обязана каждое утро, после первого стула, склоняться в поклоне, как перед результатом первого государственного акта; будь то мозг Альберта Эйнштейна, строго секретно разрезанный на кубики, законсервированный и оберегаемый от разложения. Времена меняются, а с ними и рейтинг частей тела или выделений очередного властителя времени. Что остается, так это наше вполне законное желание любоваться ими.
Вся разница в том, что прежде люди подходили к этому делу с большим почтением. Не знаю, что в наши дни могло бы послужить аналогом серебряным ковчегам с мощами святых или золотому ночному горшку Короля-Солнца. Разве что помпезно инсценированный Джефом Куном и транслируемый на весь мир публичный акт орального секса.
Я клоню к тому, что всему этому не хватает определенного достоинства. Допустим, речь идет о самом могущественном в мире человеке. И если этот человек, как и все самые могущественные люди до него, поэтически сублимирует, метафорически утверждает и превозносит свою власть, тогда столь символическому акту необходимо соответствующее обрамление. А вместо этого выставляют на посмешище целую нацию, население половины континента. И мы против этого бессильны, мы, как и ты, злорадно смакуем этот сюжет, в чем я только что имел возможность убедиться в очередной раз.
Я был в центре города, где сейчас полным-полно туристов, и ждал своего поезда. Рядом со мной стояла молодая французская пара, передо мной группа путешествующих по Европе пожилых белых американцев. Их почему-то узнаешь с первого взгляда. Трудно сказать, в чем тут дело. Может быть, в одежде, хотя она, естественно, почти такая же, как наша, разве что сочетания цветов всегда чуть-чуть более безвкусны, чем здешние. Кроме того, они всегда кажутся какими-то самодовольными. Более шумными, более вульгарными, чем прочие люди. Чтобы подчеркнуть чувства мимикой, они сильнее закатывают глаза, жуют резинку или кривят рты, словно собираются жевать резинку. Большинство из них однозначно обладают лошадиной челюстью с мощным, приспособленным для сосания прикусом. И все они подтянутые, загорелые, тренированные, но все-таки странно пухлые.
Наблюдая за ними и вот так размышляя, я заметил, что и французская пара наблюдает за ними и ухмыляется. Я, конечно, сразу подумал о Билле и Монике и о том, что и французы, несомненно, тоже сразу подумали о Билле и Монике. Мне стало ясно, что такими, какими увидел, я увидел их только из-за Билла и Моники, и я понял, что французам, которые, бесспорно, видели то же, что и я, это стало точно так же ясно. Прямо перед нами стояли две женщины лет пятидесяти. Они с ходу врубились в явно только что прерванную дискуссию о силиконовых инъекциях в губы, так сказать, сразу вошли в суть дела, in medias res, как можно было судить по их выразительным жестам. Terrible, ужасно, говорили они, a horror, кошмар, одна леди, раскрыв пухлый рот, показывала другой леди те места, куда делают уколы; похоже, это в высшей степени болезненная процедура.
Конечно, я тут же подумал о том, другом рте, конечно, я едва мог сдержаться. В тот же момент французы тихо захихикали. Наконец американцы сели в трамвай.
«Whole U. S. А.», — сказала француженка.
«Monica Lewinsky», — ответил я.
И мы втроем громко расхохотались. «Все Соединенные Штаты», н-да. Да и мы туда же.
Каникулы кончаются, и нужно переделать кучу дел, прежде чем снова завертится это беличье колесо.
И Люци скоро уедет, а пока валяется в кровати, читает, слушает музыку, уплетает шоколад, вылавливает ложкой из йогурта кусочки фруктов и, вероятно, мысленно готовится к отъезду. Погода скверная, холодно, идет дождь, а потому я сейчас выхожу по делам один. Да и в наших отношениях наблюдается заметное охлаждение. Не то чтобы мы избегали друг друга. Даже вновь обретенное доверие не пострадало. Но вот уже несколько дней мы соблюдаем некоторую дистанцию, благожелательную осторожность, словно пожилая пара, которой не о чем говорить, чьи интересы диаметрально разошлись.