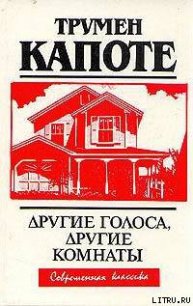Другие голоса, другие комнаты. Летний круиз - Капоте Трумен (полная версия книги TXT, FB2) 📗
— Не улыбайся, мой милый, — сказал он. Я не фотограф. С другой стороны, и художником меня едва ли назовешь — то есть, если понимать под художником того, кто видит и берет, чтобы просто передать: а у меня всегда проблемы с искажением, я пишу не столько то, что вижу, сколько то, что думаю: например, несколько лет назад — в Берлине это было — я писал мальчика немногим старше тебя, а на портрете он получился древнее Джизуса Фивера, и если в жизни глаза у него были младенчески-голубые, то я видел мутные глаза пропащего человека. И, как выяснилось, видел правильно, потому что юный Курт — так его звали — оказался совершенным исчадием и дважды пытался меня умертвить… в обоих случаях, замечу, проявив удивительную изобретательность. Бедное дитя, что-то с ним сталось?.. Да и со мной, если на то пошло? Это вот самый интересный вопрос: что сталось со мной? — По ходу разговора, как бы отбивая фразы, он макал кисть в банку, и в постепенно темневшей воде, посредине, тайным цветком распускалось красное сгущение. — Очень хорошо, можешь сесть удобнее, передохнем.
Джоул вздохнул и огляделся; он впервые попал в комнату Рандольфа и за два часа не успел в ней освоиться — уж больно не похожа была она на все виденное прежде: потертое золото, потускневшие шелка, их отражения в витиеватых зеркалах создавали такое ощущение, как будто он переел сладкого. Как ни велика была комната, свободного пространства в ней оставалось не больше полуметра; резные столы, бархатные кресла, канделябры, немецкая музыкальная шкатулка, книги, картинки, казалось, перетекали друг в дружку — будто наводнение занесло их сюда через окна и здесь оставило. За письменным столом, формой напоминавшим печень, вся стена была под корой открыток; шесть из них, японской печати, могли бы послужить к просвещению мальчика, хотя Джоулу в какой-то мере был уже известен смысл того, что на них изображалось. На длинном, черном, чудовищно тяжелом столе разместилось нечто вроде музейной экспозиции, частично состоявшей из древних кукол: иные были без рук, иные без ног, без голов, иные стеклянным пуговичным взглядом созерцали собственные внутренности, соломенные и опилочные, сквозь отверстия ран; все, однако же, были одеты — и нарядно — в бархат, кружево, полотно. А посреди стола стояла маленькая фотография в серебряной рамке, затейливой до нелепости, — фотография дешевая, сделанная, очевидно, среди аттракционов заезжего цирка, ибо сфотографированные, трое мужчин и девушка, стояли перед комическим задником с косоглазыми обезьянами и хитро косящими кенгуру; Рандольфа Джоул узнал без труда, хотя здесь он был стройнее и красивее… да и еще один мужчина казался знакомым… — отец? Лицо лишь отдаленно напоминало человека из комнаты напротив. Третий, выше ростом, чем эти двое, являл собой фигуру удивительную — крепкого сложения и, даже на этой выцветшей карточке, очень темный, почти негроид; черные и узкие глаза хитро блестели из-под пышных, как усы, бровей, а губы, более полные, чем у любой женщины, застыли в дерзкой улыбке, которая еще больше усиливала впечатление эстрадного шика, создаваемое его соломенной шляпой и тростью. Одной рукой он обнимал девушку, анемичное, фавноподобное существо, глядевшее на него с нескрываемым обожанием.
— Ну, ну, — сказал Рандольф, вытянув ноги и поднося огонь к ментоловой сигарете, — не относись серьезно к тому, что здесь видишь; это всего лишь шутка, учиненная мной надо мною же… забавная и ужасная… весьма аляповатый склеп, можно сказать. В этой комнате не бывает дня и ночи; не сменяются времена года, да и годы не идут, и когда я буду умирать, — если еще не умер, — пусть я буду мертвецки пьян и свернусь клубочком, как в материнском чреве, омываемый теплой кровью тьмы. Не иронический ли финал для того, кто в глубине своей проклятой души желал простой и чистой жизни? Хлеба и воды, бедного крова, чтоб разделить его с любимым человеком, и ничего больше? — Улыбаясь, приглаживая волосы на затылке, он загасил сигарету и взял щетку. — Какая ирония: родившись мертвым, я еще должен умереть; да, родился мертвым буквально: повитухе достало упрямства шлепком вернуть меня к жизни. Преуспела ли она в этом? — Он насмешливо посмотрел на Джоула. — Ответь мне, преуспела она в этом?
— В чем? — спросил Джоул, ибо, как всегда, не понял: в этих темных словах, казалось, Рандольф вечно вел тайный диалог с кем-то невидимым. — Рандольф, — сказал он, — не сердись на меня, пожалуйста, но ты так странно говоришь.
— Ничего, трудную музыку надо слушать по нескольку раз. И если сейчас мои слова кажутся тебе бессмыслицей, то впоследствии они будут — чересчур ясны; и когда это произойдет, когда сии цветы в твоих глазах увянут непоправимо, что ж, тогда, — хоть никакие слезы не смогли растворить мой кокон, — я все-таки всплакну о тебе. — Он встал, подошел к громадному вычурному комоду, смочил голову лимонным одеколоном, расчесал блестящие кудри и, слегка позируя, продолжал разглядывать себя в зеркале; повторяя его облик в общем, зеркало это — высокое, в рост, и французских времен, — как будто высасывало из него краски и обстругивало черты: человек в зеркале был не Рандольфом, а любой персоной, какую угодно было воображению подставить на его место; и, словно подтверждая это, Рандольф сказал: — Они романтизируют нас, зеркала, и в этом их секрет; какой изощренной пыткой было бы уничтожение всех зеркал на свете: где бы удостоверились мы тогда в существовании собственной личности? Поверь мне, мой милый, Нарцисс не был самовлюбленным… он был всего лишь одним из нас, навеки заточенных в себя, и узнавал в своем отражении единственного прекрасного товарища, единственную неразлучную любовь… бедный Нарцисс, — может быть, единственный, кто был неизменно честен в этом.
Его прервал робкий стук в дверь.
— Рандольф, — сказала Эйми, — мальчик еще у тебя?
— Мы заняты. Ступай, ступай…
— Ну, Рандольф, — заныла она, — может быть, он все-таки пойдет почитает отцу?
— Я сказал, ступай.
Джоул ничем не выдал облегчения и благодарности: привычка скрывать чувства превратилась у него почти в инстинкт; иногда благодаря этому чувство даже не возникало. Но одного он не мог добиться, потому что не придумано способа очистить сознание добела: все, что стирал он днем, выступало в сновидениях и спало рядом, держа его в железных объятиях. Что же до чтения отцу, он обнаружил такую странность: мистер Сансом никогда по-настоящему не слушал; каталог посылочной фирмы «Сирз, Робак», как выяснилось, занимал его ничуть не меньше любой повести о Диком Западе.
— До этого происшествия, — сказал Рандольф, вернувшись на место, — Эд был совсем другим… изрядный гуляка и, на не слишком придирчивый вкус, хорош собой (ты сам это можешь видеть на фотографии), но, по правде сказать, я никогда его особенно не любил — даже наоборот; прежде всего, наши отношения осложнялись тем, что он был хозяином Пепе, иначе говоря, его менеджером. Пепе Альварес — тот, что в соломенной шляпе, а девушка, стало быть, — Долорес. Карточка, разумеется, не слишком верна, наивна: придет ли кому-нибудь в голову, что всего через два дня после того, как ее сделали, один из нас покатился по лестнице с пулей в спине? — Он замолчал, поправил доску с бумагой и стал смотреть на Джоула одним глазом, как часовщик. — Теперь — тихо, не разговаривай. Я занимаюсь твоими губами.
В окна подул ветерок, зашелестел лентами кукол, принес в бархатный сумрак солнечные запахи воли; и Джоулу захотелось быть там, где, может быть, сейчас бежит по луговой траве Айдабела и Генри по пятам за ней. Составленное из окружностей лицо Рандольфа вытянулось от усердия; он долго работал молча и наконец, словно все предшествующее подспудно подвело его к этому, сказал:
— Позволь мне начать с того, что я был влюблен. Заявление, конечно, обыкновенное, но не столь обыкновенен факт, ибо не многим из нас дано понять, что любовь — это нежность, а нежность, вопреки распространенному мнению, — не жалость; и еще меньше людей знают, что счастье в любви — не сосредоточенность всех чувств на предмете; любят множество вещей, и любимый является с тем, чтобы стать всех их символом; для истинно любящего на нашей земле любимый — это распускание сирени, огни кораблей, школьный колокольчик, пейзаж, беседа незабытая, друзья, воскресенья в детстве, сгинувшие голоса, любимый костюм, осень и все времена года, память… да, вода и твердь существования, память. Ностальгический перечень — но, опять же, где найдешь на свете что-либо более ностальгическое? В твоем возрасте тонкостей почти не замечают; и тем не менее догадываюсь, что при виде меня сегодняшнего ты не в силах поверить, что я когда-то обладал душевной чистотой, необходимой для такой любви. Однако же когда мне было двадцать три года…