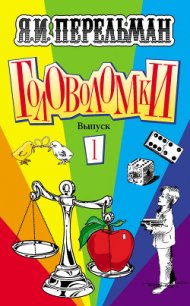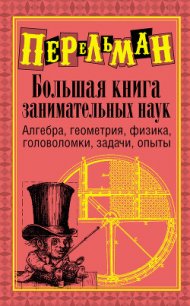Ведьма на Иордане - Шехтер Яков (читать книги онлайн бесплатно без сокращение бесплатно .txt, .fb2) 📗
Перед самой укладкой Ципи внимательно оглядывала противень и, словно художник, завершающий картину, наносила последние штрихи. Индюшачье перо, перемазанное куриным желтком, она держала, как Рембрандт кисть на знаменитом автопортрете.
Спустя час я извлекал одуряюще пахнувшие ументаши и пироги. Ципи ловко перекладывала их на подносы и закрывала полотенцами, старыми, покрытыми желтыми пятнами полотенцами, специально для этой цели достававшимися из недр ее шкафа. После каждого Пурима эти полотенца основательно стирались, но пятна навсегда въелись в ткань. В полотенцах явно скрывалась какая-то тайна, иначе бы чистюля и аккуратистка Ципи давно сменила бы их на новые, но задать вопрос я не решался, а Ципи, чуть насмешливо — или это мне так казалось — поглядывая в мою сторону, рассказывать ничего не собиралась.
Больше всего мне хотелось умять хоть кусочек, хотя бы уголок подрумяненного ументаша. Я начинал расспрашивать Ципи о температуре печки, времени выдержки, беспокоиться, хорошо ли подошло тесто, словом, старался направить ход мыслей на необходимость попробовать.
— Горячая сдоба вредна для желудка, — назидательно прерывала Ципи мои поползновения. — А твоим деткам нужен здоровый отец.
К тому времени она уже стала своим человеком в нашем доме. Иногда приходила сама, без приглашения, усаживалась в кресле у окна и помогала старшему сыну делать уроки. Младшему Ципи рассказывала сказки и пела песенки. После третьего или четвертого визита он спросил жену, по-детски не стесняясь присутствием Ципи.
— Мама, а кто нам эта тетя?
— Ну-у-у, — промямлила жена, — она нам бабушка.
— Значит, папина мама или мамина мама? — продолжал расспрашивать младший.
— Получается так.
— Но ведь у тебя уже есть мама, и у папы есть мама, а двух мам у человека быть не может.
— Она двоюродная бабушка, — попыталась извернуться жена.
— Что значит двоюродная?
— То есть родственница бабушки. Почти как бабушка.
— А что такое — почти как бабушка? — не разжимал хватку сын, и по побелевшей верхней губе жены я понял, что она начинает сердиться. Но тут вмешалась Ципи.
— Когда-то в далекой стране жили-были старик со старухой, — начала она чуть напевно, словно рассказывая сказку.
— У самого синего моря? — уточнил сын, которого «мамина» бабушка, большая любительница русской литературы, успела познакомить с известным сюжетом.
— Нет, не моря, а между двух больших рек. У них долго не было детей. И вот однажды взмолился старик Всевышнему…
— Его звали Авраамом? — подозрительно спросил сын, посещающий религиозный детский садик, где воспитательницы вместо сказок про трех богатырей и царевну-лягушку пересказывали библейские сюжеты.
— Да, — подтвердила Ципи. — Мы все от него происходим. Только я родилась намного раньше, чем ты, в одно время с твоими бабушками. Поэтому и называть меня можно так же, как их.
— Ладно, — сын подбежал к Ципи, вскарабкался к ней на колени и звонко чмокнул в щеку. — Бабушка Ципи, а ты принесла мне сегодня что-нибудь сладенькое?
Наутро Ципи раскладывала пироги по небольшим корзинкам из коричневой соломки, оборачивала хрустящей цветной пленкой и приклеивала заранее надписанные поздравительные открытки с благословениями по случаю праздника. Обитателям «О-О» она разносила корзинки сама, остальные передавала посыльному, который развозил ароматный груз по всему городу. Пироги доставлялись главному раввину Реховота, мэру, членам муниципального совета, раввинам синагог и главам ешив. Их ответные дары посыльный складывал в багажники, закончив объезд, передавал социальному работнику городской больницы.
В моей корзинке обычно оказывалась двойная порция.
— Угости деток, — говорила Ципи. — И сам поешь. Ты ведь любишь сладкое, я знаю.
Ципины пироги съедались моментально. Впрочем, слово «съедались» плохо отражает сущность полного совпадения ожидаемого с достигнутым, неуловимого перетекания из тарелки в рот, мгновенного всасывания, неизъяснимого блаженства нёба, ликования языка, счастья вкусовых рецепторов и безудержного наслаждения желудка.
— Пироги Ципи пахнут будущим миром, — говаривал главный раввин, тяжелый диабетик, нарушающий строгую диету только один раз в год, ради ументаша из коричневой корзинки. Вряд ли бы стал он лично обзванивать молящихся, собирая общину для новой синагоги, если бы не Ципины пироги. Впрочем, Яков, направляясь к главному раввину, рассчитывал на эту его слабость и в своем расчете не ошибся.
Все остальные праздники Ципи отмечала скорее по обязанности, чем по сердцу. Нет, я не могу упрекнуть ее в нарушениях закона или в своевольной трактовке одного из множества пунктов, пунктиков и параграфов, составляющих сладость еврейской жизни, но того напора и рвения, с которым она встречала Пурим, не было даже в помине. Что ж, у каждого человека есть свой день в году и свой, облюбованный праздник, выбираемые непонятным тяготением сердца.
* * *
Моя бабушка, та, которую я помню, — другая умерла задолго до моего рождения, — тоже выделяла этот праздник. Она жила в старой части города, на третьем этаже старого дома с кариатидами у входа и приветственной надписью SALVE, выложенной из кусочков коричневого мрамора на мозаичном полу вестибюля. Я бывал у нее не часто, ведь наша пятнадцатиэтажная, цементного цвета башня, оснащенная современными удобствами вроде громыхающего лифта и пованивающего мусоропровода, располагалась на самом краю нового района. Зато прямо через дорогу простирался огромный парк, а из окон можно было разглядеть черно-синюю полоску моря с одной стороны и желтые поля бесконечной колхозной кукурузы — с другой.
Сейчас я понимаю, что мои прогрессивно настроенные родители страшились бабушкиного влияния и всячески оберегали меня от него. Опасались они напрасно: я боялся и не любил бабушку. Ее квартира, густо напитанная запахами старой мебели, пыли и нафталина, ее приторно пахнущие ванилью платья, ее неправильный русский язык так не походили на светлые комнаты последнего этажа серой башни, крепкий запах отцовского одеколона и на изысканно-литературные обороты речи матери.
В Пурим — а о других еврейских праздниках мне никто никогда не рассказывал — я оставался ночевать у бабушки. До сих пор не понимаю, как ей удавалось вырвать меня из плотного кольца родительской опеки. Накинув черный кружевной платок, бабушка зажигала свечи и долго молилась, а потом усаживала меня за стол и рассказывала про Мордехая, Эстер, Амана и Ахашвероша. История сама по себе довольно забавная, если слушать ее в первый или во второй раз. Скуку этого вечера скрашивал лишь обильный ужин с обязательными треугольными пирожками на закуску.
Объевшись, я быстро засыпал на кушетке, а бабушка, повернув зеленый колпачок металлической настольной лампы так, чтобы свет не попадал на мое лицо, читала толстую книгу на непонятном языке. Читая, она вздыхала и раскачивалась, и, просыпаясь среди ночи, я видел сквозь ресницы дрожащую на стене тень.
Однажды я проснулся от ее близкого дыхания. Дышала она тяжело, с присвистом, застарелая болезнь, которая в конце концов свела бабушку в могилу, давила грудь, словно сидящая на ней гигантская жаба.
— Почему, почему ты не девочка? — услышал я жалующийся шепот.
Что за дурацкий вопрос! Я хотел утром расспросить бабушку, но, проснувшись, забыл о ночном видении и вспомнил лишь спустя несколько лет, когда спрашивать было уже не у кого.
Девочка! Природа наделила меня отчетливо мальчишеским характером. Я без конца дрался, лазал по деревьям, гонял в футбол, беспощадно уничтожая обувь. Коленки моих брюк украшали заплаты, а пуговицы рубашек постоянно отлетали, словно их отталкивали магнитом. Школьный дневник украшали грозные записи. Восклицательные знаки угрожающе краснели, сливаясь в частокол, застивший, по мнению классной руководительницы, мое будущее. Родители не знали, что делать.
В одно из посещений бабушка подарила мне чистую тетрадку, аккуратно разграфленную на квадратики.