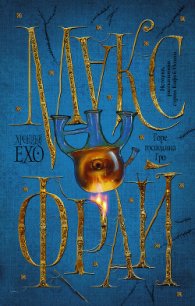Как творить историю - Фрай Стивен (серии книг читать бесплатно TXT) 📗
Прилив этих горестных мыслей породила очередная ссора с Джейн. Я возвратился в Ньюнем, предвкушая теплые объятия, кои вознаградили б меня за катастрофу с Фрейзер-Стюартом.
– Господи боже ты мой, – сказала Джейн. – А чего ты, собственно, ждал? Ты же не собирался и в самом деле вставить туда эту сентиментальную блевотину? В ученую-то диссертацию?
Уязвленный, я объяснил, что относился к моим вставкам как к стихотворениям в прозе.
– Отличная мысль, Пип. Стихотворения в прозе. Надо попробовать втюхать что-нибудь подобное в мою следующую статью. «Он дергался в корчах, покрывая ее, и в голове его наперегонки неслись мысли о свободе любовного акта. Чистота! Стерильность! Свобода соития без последствий! Он вдруг ощутил себя господином времени и пространства! Как если б…»
– Я привез из «Сайнсбериз» очищенные куриные грудки, – холодно прервал я Джейн. – Пойду нарежу их кубиками.
Я с подчеркнутой тщательностью обмазывал мясо горячим оливковым маслом, а Джейн между тем раскупоривала щеголеватую бутылку вина, и вид у нее был при этом куда более раздражающим, чем то способен описать какой угодно язык. Вид этот сам по себе являл то, что мы, историки, именуем casus belli. [59]
– Естественникам легко. Вы просто складываете числа. Да – нет, верно – неверно, черное – белое.
– Чушь собачья, дорогой.
– Ты сама это говорила. Все ответы запечатаны в разбросанных по Вселенной конвертиках. Тебе остается только вскрывать их. Вон тот ген делает человека музыкантом, а этот – святым. Эта частица говорит тебе о полном весе Вселенной, а та – о том, с чего все началось.
– Ну разумеется, именно так я и говорила. И если бы мы, бездушные тупицы, были столь же разумны, как вы, тонко чувствующие историки, мы бы уже столетия назад разложили все по полочкам.
– Я этого не говорю! – и я гневно пристукнул сковородкой об стол. – Я хотел сказать совсем не то, и ты отлично это знаешь. Ты нарочно притворяешься, будто не понимаешь меня, разве не так?
– Пойду-ка я телевизор смотреть. Твое вино на столе.
Пока я размешивал зеленую пасту тайского карри и ополаскивал рис, в голове моей складывались, в беспорядке снуя и сумятясь, новые доводы. Высокомерие, говорил я себе, до чего же они высокомерны, эти господа. Каждое умственно отыгранное мной очко сопровождалось ударом деревянной ложки о стол или хлопком крышки о котелок с рисом. Естественники, похоже, напрягают всю, какая им выпала, волю, чтобы нарочно отыскивать самые пустяковые в мире проблемы и решать именно их. Искусство, вот что идет в счет. Счастье идет в счет. Любовь. Добро. Зло. Я со стуком закрыл холодильник. Только они в счет и идут, и, разумеется, именно их естественные науки, в своем победном шествии, предпочитают игнорировать. Минут пять еще – и, пожалуй, можно будет добавить воды и бульона. Вся ваша публика относится к искусству так, точно оно – болезнь – мать твою, до чего же оно горячее, – или как к эволюционному механизму, или – черт, сломал-таки – мы ни разу не слышали от вас: «О, нам удалось установить, что электроны порочны, а протоны добродетельны», ведь так? В вашей вселенной все остается нравственно нейтральным, а между тем двухлетний ребенок способен сказать вам, что ничего нравственно нейтрального попросту не существует. Ублюдки. Долболобы. Задаваки, заблудшие, забубенные зубрилы.
– Готово!
– Секундочку!
Я завернул подогретые ломти хлеба в бумажные салфетки и налил себе еще стаканчик. А сколько презрения, сколько душераздирающего, надменного презрения к тем, кто пытается перейти топкое болото действительности, всю эту грязную жижу людских желаний и побуждений. Потому что наш метод, видите ли, «ненаучен», – да, разумеется, он ненаучен, дорогая моя. Настоящие проблемы ставят не числа, а люди.
– Мм-хм! Как вкусно пахнет.
– Знаю я, что ты думаешь, – говорю я, полагая, что все это время Джейн, сидя перед телевизором, тоже перебирала свои аргументы. – Ты думаешь, что понимать науку способны одни естественники. Всякому, кто не прошел через ритуал посвящения, говорить о ней автоматически запрещается. А вот естественник имеет столько же прав разглагольствовать о Наполеоне и Шекспире, сколько и любой другой человек.
– Хаа! Горячо! – Джейн, чтобы потянуть время и обдумать услышанное, отходит к раковине и наливает себе воды.
– Я только одно и говорю, – норовлю я выжать все, что удастся, из отыгранного очка, – мы проводим на этой планете лет семьдесят-восемьдесят. Что для нас важнее – понять физические принципы устройства атомной бомбы или разобраться в побуждениях человека и удержать его от ее использования?
– А почему бы не заняться и тем и другим?
– Да. Конечно. Еще бы. В идеальном мире – разумеется. Но давай, знаешь ли, смотреть правде в лицо. Для того чтобы разобраться в предмете столь сложном, как устройство ядерной бомбы, необходимо посвятить себя изучению определенной дисциплины, а это требует времени и упорства…
– Да я тебе объясню его меньше чем за четыре минуты. А вот если бы кто-то объяснил мне за столь же малое время побуждения человека, ведущие к войне и разрушениям, я бы просто взвыла от восторга. Передай мне бутылку, пожалуйста.
– Ага! Вот именно! Именно! – Я тычу пальцем в стол. – Наука с ее простотой – все равно что религия. Она вроде бы и дает тебе ответы, однако…
– Пип, ты сам только что сказал – понимание предмета столь сложного, как ядерная бомба, требует времени и упорства.
– Не говорил я этого.
– А, ну ладно, похоже, у меня начались слуховые галлюцинации. Извини.
– Послушай! – мною уже владеет лихорадочное возбуждение. – Я же не говорю, что естественные науки чем-то нехороши…
– Уф!
– …просто они занимаются не тем, что по-настоящему важно.
– Хотя, с другой стороны, занимаются тем, что по-настоящему важно для науки. Поэтому, собственно, и существуют разные научные дисциплины, не так ли?
– Да, но не следует слепо поклоняться им как вместилищам окончательной истины.
– А любая наука так себя и ведет?
– Ты и сама знаешь, именно так!
– Нет, не знаю. Ты, во всяком случае, им слепо не поклоняешься. – Джейн начинает собирать корочкой карри. – Знаешь что, Пип. В Кембридже работают тысячи ученых-естественников. Познакомь меня с теми из них, что слепо поклоняются науке как вместилищу окончательной истины, и я добьюсь, чтобы их выставили из университета за слабоумие и некомпетентность. Идет?
– Ну понятное дело, ты этого признать не желаешь! Изображаешь скромницу, которая во всем сомневается, полную благоговения, «прикосновенную к лику Господню» и так далее, однако попытайся все-таки взглянуть правде в лицо, попробуй хотя бы!
– О! Гладко изложено. Добавки не найдется?
– На плите. Я ведь что говорю-то, что я говорю… науке известно далеко не все.
– Не все. Чистая правда. Но это же не означает, что ей ничего не известно, ведь так? Будешь еще?
– Спасибо.
– Послушай, Пип, то, что наука не в состоянии объяснить, как Моцарт писал музыку, вовсе не запрещает нам рассуждать о строении живой клетки. Или запрещает?
– Знаешь, с тобой совершенно невозможно разговаривать.
– Чего не знала, того не знала. Мне очень жаль. Я вовсе этого не хотела.
Вот вам и вся Джейн. И все ее ученые. Увертки, увертки и увертки. Поганый народ – ученые.
Когда я погасил свою прикроватную лампу, Джейн читала какого-то южноафриканского романиста. «Приятных снов», – пробормотала она.
Я смотрел в потолок.
– Тот человек, Гамильтон, – сказал я. – Помнишь? В Данблэйне. Тот, что пришел с четырьмя пистолетами в спортивный зал подготовительной школы. И через три минуты пятнадцать пятилетних малышей и их учительница были мертвы. Человеческое существо целится в ребенка и смотрит, как пуля разрывает тому череп. Представь себе кровь, полное непонимание в глазах детей. А он все делает, и делает, и делает это. Прицеливается и спускает курок.
59
Формальный повод к объявлению войны (лат.).