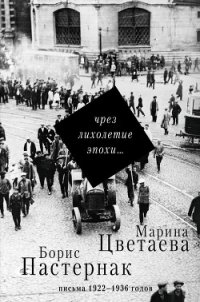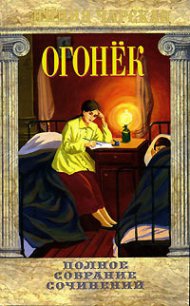Не плакать - Сальвер Лидия (читать книги онлайн бесплатно без сокращение бесплатно TXT) 📗
Едва приехав в деревню, Хосе встретил своего друга Мануэля, который разделял с ним июльское воодушевление, но не решился оставить свою семью. Хосе рассказал ему во всех подробностях о своем пребывании в городе и о виденном там бурном ликовании. Однако он обошел молчанием распри между группировками, точь-в-точь похожие на деревенские склоки, обошел молчанием лживую пропаганду политкомиссаров с русским акцентом и в круглых очочках, обошел молчанием жуткие смешки, которых ему не забыть, смешки двух убийц в кафе на Рамблас, как будто, умалчивая об этих вещах, он мог заглушить их в себе, как будто недомолвки помогали ему не сломаться окончательно.
Его друг Мануэль, который был полон энтузиазма до войны, слушал его теперь с хмурым лицом и так, будто слова Хосе отсылали его к далекой и почти начисто забытой поре его жизни. Он вернулся к прежним привычкам и явно спешил оставить в прошлом июльские восторги, побаиваясь столкновения с грандиозными идеалами, переполнявшими тогда его сердце.
Все, что он любил и отстаивал всего месяц назад, теперь было ему безразлично.
Хуже того, он отрекался от этого. Открещивался.
И в свое оправдание выложил длинный перечень накопившихся за две недели претензий к бывшим товарищам, по большей части нелепых и безосновательных: что, мол, все они borrachos[116], бездельники и пидарасы, что сеют вокруг себя дерьмо с единственной целью утолить свои похотливые инкс, инск, инстинкты, и уж больно честными себя выказывают, не иначе, себе на уме, и вообще играют на руку националам, это же надо, как предрассудки и ложь в считаные дни затмили очевидность (Хосе вскоре убедится, что претензии Мануэля распространились по деревне с быстротой эпидемии гриппа).
Хосе был обезоружен.
До того обезоружен этой нежданной злобой, что даже не нашел слов в защиту движения, к которому с таким пылом присоединился в Лериме.
Он сказал себе, что позабыл, какая у людей короткая память, а человек-то, что твой флюгер, куда ветер дунет, туда и повернется.
Он сказал себе, что недооценил неизбывной потребности рода человеческого хулить и поливать грязью все самое прекрасное.
И в очередной раз он попенял себе за простодушие.
Но он еще надеялся. Нет ничего более упрямого, ничего более цепкого, чем надежда, особенно если она беспочвенна, надежда живуча, как сорная трава.
Он думал, что еще рано сдаваться. Рано признавать себя побежденным, ведь надежда живуча, как сорная трава.
И хоть его энтузиазм изрядно поостыл после Незабываемых Дней, хоть его революционный идеал омрачила тень, которая все росла и ширилась (я: съежился идеал, как шагреневая кожа, мать: какое красивое выражение!), что-то в нем, что-то от его былой мечты упорно не желало умирать.
С усилием он взял себя в руки.
Делано небрежным тоном, чтобы не выглядеть неисправимым мечтателем, поведал Мануэлю свой маленький план: дать образование неграмотным крестьянам деревни, ибо их отсталость кое-кому на руку, в частности некий Диего бесстыдно ею пользуется.
Мануэль поморщился, не скрывая своего скептицизма. Он попытался убедить Хосе, что лучше примкнуть к лагерю Диего, чем пускаться в рискованные авантюры. А не то он, чего доброго, наживет себе смертных врагов. Cuidado con el pelirrojo! Берегись рыжего!
Никогда! На это у Хосе еще хватило энергии. Спеться с Диего — да лучше сдохнуть! Нет, дудки, он не уступит ни пяди своего убеждения, что любая власть есть гнет. Ни за что на свете он не повторит ошибки своих городских товарищей, которые, согласившись участвовать в местном управлении, мало-помалу теряли, начав с уступок и закончив отречением, все, что составляло их силу.
Но главное, что вынес Хосе из затянувшегося надолго разговора, — какое влияние в считаные дни приобрел в деревне Диего.
Почти все крестьяне, оказывается, приняли его сторону.
Самые враждебно настроенные к коммунизму теперь пели ему хвалу. Льстецы ему льстили: Вы тот человек, что нам сейчас нужен. Злые языки стали еще злее и выказывали, чтобы потрафить ему, полнейшее неприятие анархистских бредней. Подхалимы, отталкивая друг друга, рвались обменяться с ним самым марксистско-ленинским рукопожатием. А матери семейств готовы были благоговейно лизать sus cojones[117], ибо матери семейств — они такие, любят благоговейно лизать los cojones вождям (говорит моя мать).
А под конец разговора Хосе узнал вдобавок, что его собственный отец стал верным приспешником Диего.
Это был ему острый нож в сердце.
Пока Хосе горевал в родной деревне, Монсе и Франсиска, за много километров от нее, не уставали наслаждаться радостями городской жизни. Каждый вечер они посиживали на террасах кафе, где теперь, после революции, можно было выпить бесплатно стакан воды, зная, что никто не выгонит тебя вон, и смотрели, как тихонько окутывает ночная тьма крыши высоких домов.
Однажды августовским вечером, в среду, Монсе присела одна в кафе «Эстиу», том самом, где она была в день своего приезда, и сразу узнала за соседним столиком молодого француза, который читал тогда стихи о море.
И тут глаза наши повстречались, и взошла любовь, говорит мне моя мать и начинает петь:
Las naran las naranjas y las uvas,
En un pa un palo se maduran.
Los oji los ojitos que se quieren,
Desde le desde lejos se saludan
[118]
.
Молодой человек попросил el permiso[119] сесть за ее столик, и она согласилась, не чинясь (ибо революционерке, достойной так называться, не подобает жеманиться, надувать губки, притворно тупить глазки, короче, выказывать признаки принадлежности к классу буржуазии).
Молодого человека звали Андре. Он был французом. По-испански говорил безупречно. Он представился начинающим писателем. Неделю назад он покинул Париж и ждал зачисления в Интернациональную бригаду, чтобы отправиться на арагонский фронт. Он добирался от Ле Пертюса[120] в битком набитом грязном поезде, но быстро позабыл о грязи в раскаленной атмосфере, царившей во всех купе: фляга с белым вином переходила из рук в руки, звучали пламенные речи, хриплое пение, брань в адрес El Hijo de la gran Puta y su pandilla de cabrones[121], и был во всем этом какой-то сумрачный восторг, словно страх обернулся триумфом, но еще осталась в душе тьма. Его встретили на перроне вокзала guapas с охапками цветов и проводили в отель «Континенталь», где он и жил теперь за смешную цену и с идеальным сервисом.
Он сказал Монсе, что ему стыдно за Францию, стыдно за Европу, которая легла под Гитлера, и стыдно за католическую церковь, снюхавшуюся с военными.
Назавтра утром он уезжал.
Весь вечер был в его распоряжении и вся ночь.
Монсе полюбила его с первой секунды, всем сердцем и навсегда (для тех, кому невдомек, это называется любовью).
Они решили пойти в кино: вход был бесплатный, с тех пор как городом завладели анархисты. И, едва успев сесть, они припали друг к другу в темноте и слились в страстном поцелуе, который продлился не менее полутора часов. То был первый поцелуй Монсе и ее первый семимильный шаг на территорию наслаждений, перед экраном, на котором показывали другие поцелуи, надо полагать, куда более профессиональные, но далеко не такие сладкие.
И коль скоро ничто с июля не шло прежним порядком, и коль скоро мораль теперь подчинялась желанию, и коль скоро никто больше не заморачивался былыми запретами, и коль скоро все или почти все послали их подальше без тени сомнения (хотя все же с легкой тревогой), Монсе после полуторачасового поцелуя, сладкого до умопомрачения, без колебаний согласилась пойти с французом в его номер в отеле. Ей не хватило ни времени, ни ума задуматься, подходит ли к случаю ее нижнее белье (длинные ситцевые трусы, способные отбить самое горячее желание, и такая же маечка): они сразу упали на кровать, и вдыхали друг друга, и ласкали друг друга, и пылко переплелись телами, и соединились, трепеща от страсти и нетерпения, на этом я умолкаю.