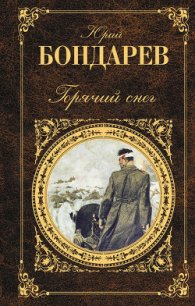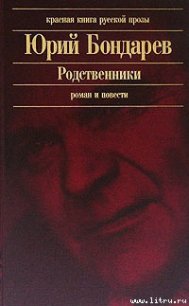Игра - Бондарев Юрий Васильевич (читать полную версию книги TXT) 📗
И через его голову полетели в воду, кишащую гибкими сильными телами семги, два металлических короба с проволокой. Крупнолицый парень, моторист баркаса, равнодушным взором поглядывая в пасмурное небо, включил мотор, и мгновенно все успокоилось, затихло в воде, плотно оцепленной лодками, – ни всплеска, ни шума, ни сверкания. Метровые рыбины неподвижно лежали, покачиваясь на сетях слитками серебра, круглыми черными глазами глядя в низкое, с ползущими тучами печорское небо, куда глядел и неулыбающийся моторист, равнодушный, невинный, только что совершивший умерщвление.
И железистым запахом смерти дохнуло на Крымова от этой покойницкой тишины меж лодок, и с томящей спазмой потянуло на тошноту при мысли, что сегодня утром он ел мясо убитой электричеством семги, – так же как в определенный срок нечто ожидающее с жадностью будет есть мясо всех вот этих убийц, кто был сейчас в лодках (и его тоже), ибо закон периодов для семги, червя и человека в природе один, с разницей в ступенях биологической лестницы, при общей равности перед вечностью. Однако призванный им на помощь жалкий, но порой и спасительный цинизм не давал разумного объяснения человеческой неумеренности.
Эти красавицы семги шли из Атлантического океана мимо Кольского полуострова, прорываясь сквозь первое окружение сетей, поставленных норвежцами, шли в Печору, к ее истокам, в маленькие реки, где на перекатах самцы должны вырыть носом ямку в гальке и оплодотворить в ней выметанную самкой икру, зарыть ямку и, уже обессиленными, погибнуть или, едва шевелясь, вновь скатиться в море. Мальки же через три года должны были направиться вслед за ними, чтобы спустя шесть-семь лет вернуться, томимые любовью, и попасть в плен и на «электрический стул», изобретенный изощренным в способах убийств человеком не для избавления от голода, а для «высокого стола» городских ресторанов и банкетов.
«Напрасно я вспоминаю об этом. Нет ответа на запрограммированную неразумность, которая через двадцать лет умертвит все живое даже на Севере. Этот с женолюбивыми глазами бригадир сказал: „Через десяток лет тут ни одной рыбешки днем с огнем… Мы ее прогрессивным способом добываем. Как лес вроде – валим и валим“.
Но больше всего поразила Крымова мертвенность, кладбищенский ветер над той землей, где было последнее прибежище несравненного Аввакума.
Он увидел это через час после Печоры.
… – Вниз посмотрите! Там Пустозерск!
– Где? Пока не вижу!
– Да внизу, внизу город Пустозерск!
Вертолет завис над землей, найдя нужную точку в высоте, но там, внизу, в солнечной пропасти, не было никакого города – там, среди унылой неоглядности равнинного единообразия, блистали, вспыхивали бессмысленной игрой воды зеркала озер, вокруг которых лежала неживая, бурая тундра, сжимающая душу безнадежностью дикого, какого-то вневременного пространства.
Повисев между солнцем и землей, сатанински взревев мотором, вертолет начал быстро снижаться, опускаться к земле, и в окно стало видно, как резко заколебались, легли окружьем под ветром винта пересохшие травы, круто пошли волны по ближнему озеру. Мотор смолк. И в первобытной, ломящей уши тишине все точно очнулись, развязали ремни, поднялись с мест и нерешительно, нетвердо сошли по железной лесенке, приставленной пилотами к борту вертолета, на кочковатую землю. Ослепленный оголенным солнцем, объятый хлынувшей со всех сторон тишиной, сладким воздухом беспредельного горизонта, Крымов огляделся, отыскивая признаки человеческого жилья, еще не веря, что это место должно было быть городом Пустозерском.
– А где дома? Где тут жили? – спросил недоуменно оператор. – Вот грусть-то, а?..
Безлюдье, солнечный северный день и ветер над плоскими озерами, над всем этим первозданным, богом забытым в своей грубой простоте и древности простором. А там, где некогда стояли крепкие дома с широкими поветями, колодцы, прочные магазины, амбары, школа, – жестокое разрушение прошлось нещадно, не оставляя никаких признаков живого. И печально было видеть заросшие бугры старых могил, останки полуистлевших крестов, и странно выделялись два новых, чрезвычайно крепких креста, недавно покрашенных голубой краской. Кто похоронен был здесь, как довезли сюда, за сотни километров, по северной тундре тела умерших? И какая цель была в этом захоронении, где вокруг ни жилья, ни человеческого голоса? Лишь солнце, озера, глушь, ветер…
Спотыкаясь о кости в траве, Крымов следом за оператором подошел к высокому серому камню на бугорке погоста, сказал:
– Снимите здесь всё.
– Значит, он? Огнепальный? – спросил оператор.
– Да, он.
Это был памятник протопопу Аввакуму, неистовому правдолюбцу, сожженному в Пустозерске царским повелением в семнадцатом веке, умерщвленному огнем в страданиях за неистовый бунт против всемогущего патриарха Никона.
Подле камня Аввакума на высушенной солнцем, давно сбитой кем-то скамейке, потрескавшейся на дожде и ветру, кругло белели два маленьких черепа, по-видимому, младенческих, и отмытые временем добела младенческие берцовые кости, зачем-то положенные здесь, вероятно, из разрушенных могил.
– Экими мы тут кажемся жалкими, – сказал оператор и в нерешительности опустил киноаппарат, погладил шершавый камень. – Страдалец. А какая у него силуха была и убеждение!
– Нам всем не хватает убеждения, – сказал Крымов. – К сожалению.
– Мы просто не знаем, где истина, – усмехнулся оператор. – Променяли на модный галстук и модную юбчонку с иностранной наклейкой на заднице.
Они стояли перед камнем, читая на нем слова о непокоренном страданием и смертью протопопе, страстотерпце непоколебимом, никакой властью не наделенном, но поднявшем себя во имя своей правды и веры против царя всея Руси Алексея Михайловича и властолюбивого патриарха Никона. И Крымов с болью вообразил, как он, привязанный, горел вот здесь, в подожженной с четырех сторон палачами избе, проклиная изменников, предателей веры, уже вконец обессиленный, но неистощимый в духовной страсти, – и, сняв шапку, глядя на камень, мысленно просил у него сил, одержимости в режиссерском деле своем, зная, что других сил в помощь, кроме собственных, не будет.
Северное солнце пригревало, ветер обдувал Крымову голову на этой запущенной северной земле, где вместо старого русского городка, деревянных улиц, людских голосов, развешанных на кольях сетей теперь было заброшенное среди озер кладбище, усыпанное разбросанными в траве костями.
Летчики, двое серьезных парней, тоже постояли вместе с Крымовым в молчании, сняли голубые фуражки, потом подошел низенький рыжий радист, оживленно сказал, что недалеко отсюда нашел две могилы, не то людьми, не то зверями разрытые, в одной черепа, в другой кости рук и ног – видать, четвертовали кого-то, – и пригласил посмотреть.
– Нет, – отказался Крымов. – Хватит и этого.
Летчики с оператором ушли, а он присел на скамейку возле камня Аввакума, вблизи которого лежали выбеленные солнцем детские черепа, стараясь понять, почему они были положены рядом с ним, подвижником веры.
Когда вертолет, гудя мощным мотором, стал вертикально подыматься от земли Пустозерска, по прежнему сияло оловянное предполярное солнце, по-прежнему оловянно отсвечивали озера, пустые, мертвые, никому не нужные сейчас, охраняемые жалкой толпой крестов и разворошенных могил на покинутом погосте. По-прежнему здесь властвовало безлюдье, а вертолет уносился в высоту от казненной и сожженной земли. И только на бугре серой свечой без огня торчал камень Аввакума, напоминая о яростной, ненасытной жестокости власти и о ничтожестве и равности всех перед единым небом и единым солнцем. И тогда Крымову подумалось, что если под этим небом уже нет той энергии духа, подобного несломленному духу протопопа Аввакума, то цивилизация закончится тем, что лет через двадцать над опустошенной землей, над круглой пустыней будет летать некто, с тоской видя лишь черные пятна остывшего человеческого пепелища.
Но что, собственно, было общего между «электрическим стулом» на перекрытой сетями Печоре и Пустозерском? Почему он улетел с Севера подавленный, хотя какая-то тоненькая струйка сознания сопротивлялась в нем, пробивалась беззаботно – в надежде на что-то нескончаемое и спасительное…