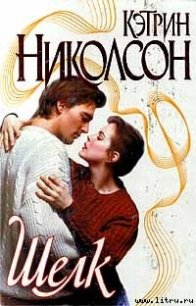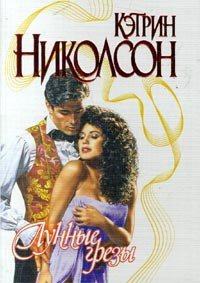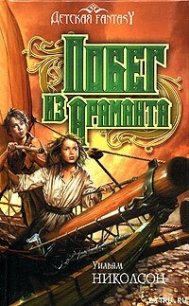Бельэтаж - Бейкер Николсон (читаем полную версию книг бесплатно .txt) 📗
До «Си-ви-эс» я дошел за десять минут. Прежде чем войти, я выбросил остатки попкорна в квадратную урну с заслонкой, выпачканной пролитой газировкой: важно было толкнуть заслонку выбрасываемым предметом, а потом успеть отдернуть руку так быстро, чтобы не коснуться липкой поверхности; на этот раз фокус не удался – урна была переполнена, пришлось вдавливать пакет из-под попкорна в мусор, чтобы заслонка опустилась, как полагается. Вытерев испачканные солью и маслом от попкорна ладони о внутренние поверхности карманов, я шагнул в прохладное нутро магазина.
Я понятия не имел, где продают шнурки, но часто бывал в аптеках «Си-ви-эс» по всему городу и считал, что досконально изучил внутренний план этих заведений и классификацию товаров, «для глаз», «от головной боли», «для волос» – было написано на висящих табличках с некогда броским, а теперь устаревшим отсутствием заглавных букв, – но мало кто из покупателей, думалось мне, знает так же хорошо, как я, что беруши следует искать в дальнем углу, под табличкой «первая помощь», рядом с прищепками на нос для пловцов, подкладками под колени «Эйс», мазями «Круэкс», кремами и лосьонами «Каладрил», спреем от вшей «Лай-Бэн» и целыми полками лейкопластыря. С расположением полок в «Си-ви-эс» я ознакомился благодаря регулярным покупкам берушей. На неделю мне хватало одной упаковки, с годами я начал находить вкус в изысканном расположении этого товара, подразумевающем, и небезосновательно, что слишком тонкий слух – это физический недостаток, симптом, достойный лечения. Более того, в этом проходе между стеллажами редко скапливались покупатели таблеток, как под вывеской «от головной боли», и все ближайшие доверчиво не запечатанные коробки лейкопластыря – изготовленного точно по форме необычных ран, с призовым вкладышем миниатюрных полосок, которыми взрослые заклеивают даже глубокие порезы на пальцах, полученные, к примеру, при нарезании заранее разделенного на ломти бублика, поскольку такие полоски меньше бросаются в глаза и не свидетельствуют об изнеженности, чем лейкопластырь стандартного размера – казались мне сердцем аптеки. Из случайно открытой коробки с лейкопластырем веет запахом (это я обнаружил недавно, когда пластырь понадобился мне, чтобы заклеить один маленький на редкость противный порез [41]), от которого мгновенно переносишься назад, в свои четыре года [42], – впрочем, больше я не доверяю этому фокусу памяти на запах: есть в нем что-то от системного сбоя в работе обонятельных нервов, от низкоуровневой ассоциативной связи, низшей по сравнению с более утонченным пластом языка и опыта, между запахом, зрительным образом и эгоизмом, связью, которую некоторые писатели превозносят как нечто более реальное, чистое и исполненное священного смысла, нежели умственная память, подобно тому, как пузыри болотного метана пугливые провинциалы когда-то принимали за НЛО.
Берушами я постоянно пользовался не только для сна, но и на работе, поскольку обнаружил, что усиленные объемные звуки моих собственных челюстей и зубов, ощущение подводной заложенности в ушах, приглушение всех внешних шумов, даже щелканья кнопок моего калькулятора и шороха бумаг, помогают мне сосредоточиться. Бывали дни, когда я, занятый составлением пылких записок начальству, проводил в берушах целое утро и день, ходил в них даже в туалет и вынимал, лишь когда приходилось разговаривать по телефону. Но в обеденный перерыв я избавлялся от берушей – вероятно, этим и объяснялось иное свойство высшей гармонии моих мыслей во время обеда: дело было не только в солнечном свете и протертых очках, но и в том, что я отчетливо слышал мир впервые с тех пор, как утром выходил из подземки. (Берушами я пользовался и в метро.) Я выбрал силиконовые беруши «Флентс Сайлафлекс». Эти превосходные заглушки появились только в 1982 году, по крайней мере в аптеках, где я бывал. Раньше я покупал старые затычки «Флентс» в оранжевой коробочке, сделанные из пропитанной воском ваты, гигантские по размеру; приходилось резать их пополам ножницами, чтобы они плотно сидели в ушах во время работы; после них пальцы становились жирными от розового парафина. У Л. они вызывали отвращение, но она хранила беруши, забытые мною на подоконнике у кровати, в пустой коробочке из-под пастилок с пасторальным пейзажем на крышке, – и я ее не виню. Затем на рынок вышла компания «Маккеон Продактс» с предложением мягких берушей «Мэкс Пиллоу Софт®» – комочков прозрачной, похожей на гель замазки, закупоривающей слуховой проход так надежно, что барабанные перепонки слегка поднывали, когда давление пальцев ослабевало, потому что в ухе создавался слабый вакуум – вакуум! А всем известно, насколько плохо звук распространяется в вакууме! Следовательно, эти новые затычки не просто преграждали путь звуковым волнам, но и меняли звукопроводимость самого воздуха, находящегося в ушном проходе! Слух о новом продукте передавали из уст в уста, он распространялся от аптеки к аптеке. Я пользовался этой замазкой, пока не забыл, что такое настоящий звук. «Флентс» нанес контрудар, начал продвигать гладкую модель «Сайлафлекс» – цилиндрическую разновидность «Мэкса» телесного цвета, и в то же время постепенно снимал с производства старых монстров из ваты с воском, похожих на рулончики карамели «Тутси». Подобно «Мэксам», беруши «Сайлафлекс» продавались в пластмассовых коробочках с откидной крышкой, наподобие табакерки; я носил эти коробочки в кармане рубашки, чтобы вставлять новые беруши по мере надобности. Но «Флентс» по-прежнему опасался судебных тяжб и продолжал выпускать продукцию слишком большого размера, и хотя на упаковке значилось «три пары в удобном футляре», я продолжал делить каждый цилиндрик пополам и получал шесть полных комплектов. В постели я целовал Л., желая ей доброй ночи, пока она записывала события минувшего дня в дневник со спиральным переплетом, затем выбирал перспективную, хоть и побывавшую в употреблении заглушку среди лежащих на тумбочке, и вставлял ее в то ухо, которое предстояло обратить к потолку первым. Если Л. что-нибудь спрашивала уже после того, как я заткнул ухо и повернулся на бок, мне приходилось отрывать голову от подушки и подставлять нижнее, слышащее ухо. Поначалу я пробовал спать, заткнув оба уха, чтобы спокойно вертеться во сне и ничего не слышать, какое бы ухо ни оказалось сверху, но вскоре обнаружил, что вдавленное в подушку ухо по утрам побаливает; поэтому я научился переносить единственную теплую затычку из одного уха в другое во сне, в процессе переворачивания. К тому времени Л. смирилась с моим пристрастием к берушам; иногда, чтобы продемонстрировать прилив нежности, она брала деревянные щипчики для тостера, подхватывала ими затычку, собственноручно вставляла ее в мое обращенное к потолку ухо и слегка утрамбовывала, спрашивая: «Видишь? Теперь видишь, как я тебя люблю?» [43]
Рядом с берушами стояли длинноносые белые флакончики для промывания ушей, которые я покупал раз в год. Проснувшись в тревоге среди ночи, вынув ночную затычку и обнаружив, что лучше слышно не стало, я оставался в постели, прыскал в ухо холодным раствором перекиси карбамида и лежал неподвижно, ожидая начала ощутимого брожения. Потом шел в душ. Правда, это впрыскивание не было столь эффективным, как действие удивительного стального приспособления с теплой водой, каким пользовались медсестры: у этого устройства имелось два выступа для пальцев, как у шприца, и поршень, приводимый в движение большим пальцем, и оно выбрасывало прямо в голову почти невыносимую струю теплой воды, вымывая все инородное в судно, которое ты сам придерживал возле шеи. Когда мне таким образом прочистили уши, я начал слышать в звуковом диапазоне, забытом с младенчества, и величайшим наслаждением, связанным с этой новой, бескрайней остротой слуха, наложенной на нормальные звуки, была возможность при желании отказаться от нее, заткнув уши парой берушей «Сайлафлекс». Но просить какую-нибудь медсестру промыть мне уши я стеснялся, ведь она увидела бы выливающийся из них грязный поток, поэтому я действовал собственноручно, с помощью белого флакончика с раствором из «Си-ви-эс», а потом стоял под душем и считал до шестидесяти, наклонив голову под углом, чтобы горячая вода как можно точнее попадала мне прямо в ухо. Продукт был из тех важных и таинственных, которые продавали в «Си-ви-эс» – вся эта сеть занималась продажей дорогих, высокоспециализированных мелочей, благодаря которым человеческое тело становилось пригодным для цивилизованного общества. Здесь мужчины и женщины странно поглядывали друг на друга – в действие вступали уловки и необычные силы влечения. На продажу выставлялись товары, применение которых требовало наготы и уединения. Предназначались они скорее для женщин, чем для мужчин, но и мужчинам позволялось беспрепятственно бродить между стеллажами, светящимися от несильного, но измеримого в единицах радиоактивности пыла. Проскальзываешь мимо женщины, изучающей надпись мелким шрифтом на одноразовой уксусной насадке на душевой шланг. Она чувствует, как ты проходишь. Трепет! Вторая женщина разглядывает упаковку «Асперкрема» – зачем? Третья решает, нужен ли ей зажим для загибания ресниц от «Ревлона» – гибрид чайного ситечка и средневековой катапульты. Тяжелые округлые бруски мыла «Бэйзис» и «Дав», продаваемые в ярких квадратных коробочках, сегодня выскользнут из упаковки в преддверии вечернего душа, оттиснутые на них торговые марки будут смыты при скольжении по женским плечам и животам [44]. Когда я был маленький, младше, чем следовало бы, я часто крал гигиенические прокладки из коробки, хранящейся среди обуви в шкафу у родителей, где эти прокладки лежали свернутые, словно теннисные свитера на полке. Я уносил их с собой в ванную, где с трудом протыкал в них дыру карандашом или зубной щеткой, просовывал в дыру свой пенис толщиной с карандаш и мочился в унитаз – вот и в аптеках сети «Си-ви-эс» есть что-то от этой смутной, детской развращенности и неопределенности: слишком уж много вещей для интимного пользования собрано в одном общественном месте. Даже если зашел туда за средством от отеков, или, как я, за парой шнурков, все равно почувствуешь приглушенные соблазнительные вибрации этого заведения: реклама средств для загара «Коппертон» вместо обоев, квадратные ярды загорелых плеч, колен и лиц, а рядом – обои «Крэйзи Нэйлз», «Маалокс», антиперспиранта «Секрет», батареек «Энерджайзер», наклеенные поверх прежних, там и сям чередующиеся с круглым зеркалом от магазинных воров. Строго конфиденциальные названия шепотом напоминают о себе с каждого стеллажа – «анбесол», «памприн», «ивен-фло», «тронолан» – мастерский силлабический гибрид извращенческого и медицинского, цвета каждой упаковки повторяются в стопках из четырех, восьми и десяти упаковок на полках. Это целый Стамбул в шкафчике-аптечке, отделенный от улицы невинным красным крестом и чистотой эмблемы «Си-ви-эс».
41
Лейкопластырь я достал из коробки в квартире Л., – у меня его не оказалось. Очень часто в «Си-ви-эс» можно увидеть женщин, задумчиво оглядывающих полки с пластырем – наверное, они думают: «Куплю-ка я этот пластырь и положу в аптечку – специально для мелких ран хорошего человека, с которым познакомлюсь в будущем; а потом пластырь пригодится, чтобы заклеивать ссадины на локтях наших детишек».
42
В том возрасте я пырнул своего лучшего друга Фреда в основание шеи фестончатыми ножницами, рассвирепев потому, что ему подарили коробку с полным набором цветных карандашей – шестьюдесятью четырьмя, в том числе золотым и серебряным, – а он не давал мне как следует рассмотреть коробку и сообразить, как под ярусами карандашей в нее встроена точилка. Целых полторы недели Фред задирал нос, щеголяя пластырями «Джонсон и Джонсон» всех размеров и разновидностей (его родители были богаты и могли позволить себе купить коробку с полным набором пластырей – в том числе и тех причудливых форм, какие, насколько мне известно, теперь не выпускают), наотрез отказывался показать мне рану (совсем крошечную) и возбуждал во мне муки совести и любопытство, продолжая заклеивать самым маленьким пластырем – кружочком телесного цвета, диаметром 3/8 дюйма – уже затянувшуюся ранку, от которой, уверен, к тому времени остался лишь неприметный белый шрам в форме звездочки.
43
Для засыпания беруши необходимы, но бесполезны позднее, когда просыпаешься от ночной тревоги, с мозгом, пропитанным неприятной флуоресцентной влагой. Все годы учебы в колледже я спал прекрасно, но на новой работе у меня начались регулярные приступы бессонницы и длительный период проб и ошибок, пока я перебирал видения, особенно надежно убаюкивавшие меня. В ночь на понедельник я начинал с кинематографических титров – существительных вроде «МЕМОРАНДУМ» или «КАРАКАТИЦА», составленных из гигантских объемных изогнутых букв, обведенных хромированными контурами и мерцающими звездами, вращающихся вокруг двух осей. Я давал себе зарок уснуть к тому времени, как доберусь до разрастающейся О или похожей на чердачное окно А. Этот способ вскоре утратил эффективность. Убежденный, что более овеществленные и менее абстрактные образы навеют сон наверняка, я воображал, как еду в низком спортивном автомобиле, взлетаю с палубы авианосца на плоском скоростном истребителе или выжимаю пропитанное водой полотенце в затопленном подвале. Лучше всего действовал истребитель, но и его мне хватило ненадолго. А потом, удивляясь, как это сразу не пришло мне в голову, я вспомнил традиционный подсчет овец. В диснеевских мультфильмах овцы легко прыгают через живую изгородь или штакетник, возникая в облаке над головой лежащего в постели персонажа, а скрипки аккомпанируют мягкому голосу с пластинки на 78 оборотов, произносящему; «Одна, две, три, четыре...» Я представлял себе рабочую обстановку на студии Диснея в золотой век мультипликации – доброжелательная сосредоточенность на склоненном лике художника, тщательно закрашивающего силуэт парящей в воздухе стилизованной овцы, в своем кадре продвинувшейся по дуге дальше предшественниц, теплый свет лампы на прищепке над чертежным столом озаряет кнопки, ленту кадров, специальный ацетатный карандаш в руке – и вскоре успешно засыпал. Но несмотря на эффективность диснеевского способа, он вызывал у меня неудовлетворенность: да, я воображал себе овец, однако традиции, которых мне хотелось придерживаться, призывали пересчитывать их. Но я не видел смысла в подсчете одного и того же набора совершенно одинаковых анимированных и зацикленных кадров. Мне требовалось выйти за рамки мультипликации, сознать процессию различимых овец специально для себя. Поэтому я уделял внимание каждой еще на подходе к барьеру, высматривал их особенности – приставший репей, ошметки засохшей грязи на ногах. Иногда я вешал на очередную овцу перед прыжком стартовый номер и давал ей кличку, как на Кентуккийских скачках: Поздний Завтрак, Носферату, Я-перед-Е, Крошка Вилли-Винки. И заставлял ее прыгать очень медленно, чтобы тщательно изучить каждый этап: частицы взлетевшей в воздух пыли медленно плывут к объективу, гримаса мягких губ, дрожь, прошедшая по шерсти в момент приземления. Если и это меня не усыпляло, я сдавался и реконструировал весь день овцы, поскольку обнаружил, что снотворным воздействием обладает приближение к прыжку, а не сам прыжок. Судя по взъерошенному и недовольному виду, некоторые овцы днем работали в других городах. Находясь в офисе, примерно в два часа дня я, предчувствуя бессонную ночь, представлял себе, как звоню одной из пастушек-диспетчерш: нельзя ли прислать овец в любом количестве, желательно меньше тридцати, ко мне на дом к половине четвертого утра, для подсчетов? Овечья распорядительница умело указывала посохом на свое стадо: «Ты, ты и ты», повторяла кивающим подчиненным мой адрес, и моя личная отара через пятнадцать минут отправлялась под расписку о получении. Целый день овцы брели по деревенским площадям, пересекали русла пересохших ручьев, семенили по обочинам шоссе. Когда я ужинал с Л., овцам было еще идти и идти, но в половине двенадцатого, ложась спать, я мог бы увидеть их с высоты в бинокль: крошечные подскакивающие шарики рядом с укороченной в перспективе вывеской постоялого двора «Красная крыша», все еще в соседнем округе. А в половине четвертого, когда я остро нуждался в них, они врывались, взбудораженные путешествием: я откладывал недописанное благодарственное письмо, принимал овец по накладной, расплачивался за них, и вскоре первые несколько уже начинали скакать через заранее выставленные планки и молочные ящики, высовывая от усердия розовые язычки и показывая белки глаз; одна, две, три... – а я превращался в преуспевающего режиссера роликов, рекламирующих кондиционер для ткани: нам требовались эффектные снимки скачущих овец; их руно в лучах заходящего солнца должно выглядеть золотым, а вид, пасторального пейзажа обязан вызывать безотчетное умиление. Вот я лично купаю каждую овцу с шампунем, утешаю плакс, зачитываю отаре отрывки из «Идеи университета» кардинала Ньюмена, добиваясь целеустремленности и грации, показываю, как от них требуется ввинтиться пухлым телом в воздух, для пущего эффекта взбрыкнуть задними ногами, картинно вскинуть голову и всегда, всегда приземляться на левое переднее копыто. Я дирижировал свернутым в трубку сценарием: «Так, теперь номер четыре. Легче, грациознее. Толчок... вверх! Задние ноги! Зубы! Дайте мне напряжение! Ноздри! И вниз!» Позднее я обнаружил, что мое последнее видение в момент засыпания – угасающий образ одинокой овцы, перепрыгнувшей мой барьер, облегченно вздыхающей и довольной своим успехами. Она спешит по холму на следующее задание – перепрыгнуть через травяной бордюр для замедленной съемки: для Л., разбуженной своими тревожными мыслями рядом со мной.
44
Адекватной замены слову «живот» не существует, как и слову «подружка». «Живот» соотносится с «подружкой», как «пузо» с «любовницей», «брюшная полость» с «супругой» и «талия» с «дружочком».