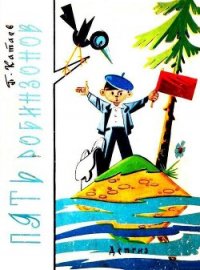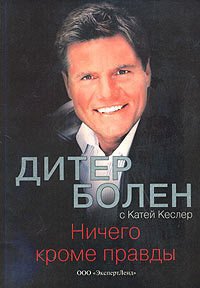Старик - Трифонов Юрий Валентинович (книги без регистрации бесплатно полностью сокращений txt) 📗
Бычин грозит пальцем: «И насчет сынов не проси! Разговор конченый».
Слабосердов будто бы спокойно — а пальцы дрожат, мнут старую шляпу — заводит длинную ахинею насчет казачества, его истории, происхождения, нравов, обычаев… Шура глядит на учителя пристально, лицо Бычина наливается бурой краской, ему кажется, что его дурачат. Вдруг выпаливает: «Ты чего плетешь?» И Наум Орлик добавляет: нет времени слушать лекции по истории. В другой раз, на досуге, после победы мировой революции. Но Слабосердов вдруг твердо: «Однако, граждане, вы решаете исторические вопросы. Так что историю вспомнить не грех».
«Куда клоните?» — хмурится Шура.
«Клоню к тому, что в станице гудят. Будто есть приказ реквизировать повозки, седла, конскую упряжь — все казацкое богатство, без которого жизни нет. Вы хоть понимаете, что это будет? Он вам скорее жену отдаст, чем седла и упряжь». — «Все отдаст, что революция потребует», — говорит Орлик. «А не отдаст — во!» — Бычин подносит к лицу Слабосердова кулак, похожий на гирю. Учитель не замечает кулака, не слышит того, что говорит Орлик.
«Я пришел, граждане, предупредить… Надо слишком мало знать казачество, чтобы полагать, что можно бесконечно на него жать: сначала контрибуцию на богатые дворы в пользу какого-то отряда, которого никто не звал, свалился на нас невесть откуда… Потом реквизиция хлеба, фуража…»
«Отряд, который занимался тут контрибуциями, был анархистский, — говорит Шура. — Советская власть не имеет к нему отношения».
«Да что вы с ним балы разводите! — кричит заместитель Бычина по ревкому, черный, с плоским, калмыцкого типа лицом Усмарь. — Обнаружился, гад! В расход его!»
Но Шура: нет, пускай доскажет. Учитель говорит: если вправду есть такой приказ и начнут его выполнять, в станице будет бунт. Не пустая угроза, а реальная. Он, Слабосердов, пришел не пугать, не грозить, пришел не от какого-то комитета, а от себя самого — всю жизнь он собирает материалы по истории казачества, пишет книгу, знает казаков хорошо и смеет думать, что не ошибается и сейчас. Дошло до края. События разразятся трагические. И уж тем более, если разыграются взаимное озлобление и месть — если жертвами падут заложники… «Да вы сознаете, что происходит в России? — спрашивает Шура. — Или мы мировую буржуазию в бараний рог, или она нас. А вы допотопными понятиями живете: „трагические события“, „месть“, „озлобление“. Тут смертный классовый бой, понятно вам?»
«Я теории Маркса не отрицаю, гражданин Данилов, я с нею знаком, даже увлекался в какой-то мере, но согласитесь, теория — одно, практика — другое. Чувство мести к сожалению, может примешиваться, как ни прискорбно…»
Странное впечатление: бессмысленной нелепой деликатности и чего-то твердого, негнущегося, какого-то несуразного торчка. Сразу вижу, не жилец. Ничего не понимает. И его не понимает никто.
«Не слухайте его! Пошел отсюда, ворона! Раскаркался!» Это Усмарь. Он озлоблен против учителя больше других, даже больше Бычина. Федя Усмарь — из казаков-середняков, смуглый, корявый, отчетливо помню плоское, блином лицо, всегда прищуренные глаза, не видно, куда глядит… Вскоре открылось — агент белых. По его указке деникинцы, захватив Михайлинскую, вырубили всех, кто помогал ревкому. А Бычин — балда. Оттого и погиб.
Усмарь показывает учителю наган. «За провокацию знаешь что? Ведь ты провокатор!» — «Не боюсь вас, граждане…» Вдруг силы покидают учителя, шляпа выскальзывает из рук. Слабым голосом старик говорит:
«Но невинных людей зачем же? За что моим детям такая казнь?.. Я вас умоляю, гражданин Данилов, не поступайте необдуманно…» По лицу Слабосердова текут слезы. Они сами по себе, а лицо грубо, мертво застыло.
«Ах, вона? Боится восстания, потому что сынов расстреляем, как заложников?» Слабосердов молчит. Да и так ясно. Пришел ради них. Однако остановить ничего нельзя, приказ должен быть выполнен.
В разбитое окно летит ветер, пахнущий сладко и гнило: землей, далью, теплом. Февраль девятнадцатого. Девятая армия бьется лбом в Северский Донец, но, кажется, силы и напор на излете. Мы чуем эту лихорадку. Казаки угадывают ее в воздухе, в котором что-то надломилось, поплыло, как кусок льда в талой воде. В Старосельскую посылают затемно гонца. Тот возвращается к вечеру другого дня с неясными сведениями: в станице тихо, глухо, шесть человек, обвиненных в убийстве комиссара, расстреляны, человек двадцать взяты заложниками, но командир отряда матрос Чевгун не спешит покидать станицу. Передал Шуре через гонца всего три слова: «Достаточно малой искры». И в этот предгрозовой воздух, в обманную тишь сваливаются внезапно сначала Володя и Ася, а спустя день Шигонцев.
Не виделись год и три месяца, огрубели, ожесточели неузнаваемо, а внутри все то же, та же единственность , та же теплота до боли . Ведь, казалось, должно было вылететь, забыться и отпасть навсегда — таким вихрем разметало. Нет, ничего, никуда. И в первую секунду, в первый час было как будто совершенно все равно, отсутствовало то, что она с ним, и уже не просто подруга, а жена, они даже говорили одними фразами, один начинал, другой договаривал, слишком часто бросали друг на друга взгляды, беглые и необязательные, но исполненные привычного внимания, машинального ощупывания — так ли? здесь ли? — и это вовсе тоже не задевало, а было как бы усилением той теплоты памяти, вдруг нахлынувшей, потому что они двое были нерасторжимость, одно. Это потом началась, и быстро — мука…
Как попали к Мигулину? Все тот же случай, поток, зацепило, поволокло. Из-за отца Володи, внезапно возникшего. Тот был с кем-то дружен из мигулинского штаба и еще весной восемнадцатого, когда Мигулин сколачивал первые отряды в Донецких степях, пристал к нему. Отец Володи погиб в бронепоезде, взорванном гайдамаками. Так и вышло: отец каким-то краем прибился к Мигулину, Володя — к отцу, а уж Ася — с ним. Разломилась семья, как спелый подсолнух. А что с родителями? Бог знает, то ли в Ростове, то ли в Новочеркасске, а может, укатили дальше на юг. Какой-то пленный рассказал, будто приват-доцент Игумнов подвизается вроде бы в Осваге среди деникинских агитаторов в Ростове. Скоро Ростов будет взят, и тогда… Что тогда? Ася об этом не думает, у нее другая забота — ждет ребенка. А Володя ни о чем говорить не может — только о Мигулине, страстно, нетерпеливо. Сообщает секретно: «В Реввоенсовете фронта его терпеть не могут. Хотя и побеждает, а все чужак… Да и сам Троцкий кривится, когда слышит фамилию… И как доказать, что он наш?»