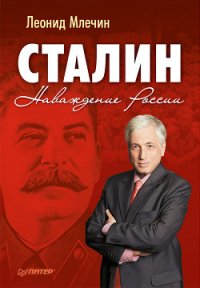Две строчки времени - Ржевский Леонид (читать лучшие читаемые книги txt) 📗
Но несчастнее осени, о которой пишу, всего полутора только осенних месяцев того года, ничего не могу припомнить. Мне и Юте представлялось тогда, что все хляби злодейства и ненависти, накопленные людьми за века, низверглись и осыпаются на наши головы.
Ее исключили из студии уже через несколько дней после ласкового разговора. Это был не разовый только удар, крах надежд, начатого взлета, но — нечто отнятое навсегда у души, пустота, которую я читал у нее в глазах и слышал в ее голосе.
«Идет следствие», «идет следствие», «идет следствие»… — отвечали ей неизменно в проклятую форточку на Кузнецком.
Она стеснялась брать деньги на жизнь у меня, но ни одно учреждение с анкетным хозяйством не приняло бы ее теперь на работу; временно я устроил ее к знакомой одной библиотекарше — разбирать вымороченные после чьей-то смерти книги.
Но, может быть, тяжелее всего и враждебней была для нее пустыня коммунальной квартиры. «Мама с соседями была хороша, ухаживала, если кто заболеет. А сейчас все почти отворачиваются при встрече. Один только Степан мил по-прежнему»…
Степана, дворника, бывшего понятым при обыске, Юта однажды летом посылала ко мне с какой-то книгой. Он застрял у меня тогда до вечера: Ниловна принесла графинчик водки, — и мы с тех пор хорошо понимали друг друга. Пьяница он был горький и тянул ежедневно без всяких постов.
Я не застал как-то Юту с поезда утром и уже выходил из сада, когда распахнулось окно, и Степан поманил войти. Марья, жена его, впуская меня, в сердцах махнула на него рукой и ушла.
Какое-то время понадобилось — убедить его, что я не пью по утрам. Все-таки, упрямо налив мне на донышко, он наполнил свою стопку доверху и начал шепеляво, потому что вставные верхние зубы носил всегда в грудном кармане завернутыми в тряпочку:
— За Юту и ее папку с мамкой… Подняли! Хотел еще сказать: забрал бы ты девку отсюда, — не сделала бы чего над собой. Я уж приказал своей Машке приглядывать… Главное дело — одна, а людишки у нас — не дай Бог! Доверительно скажу: хотят ее переселять, подписали уже коллективное насчет комнаты, мало что не передрались, кому занимать. А ей — шесть квадратных, вроде чулана, старуха там недавно у нас померла…
Когда я, отбившись от выпивки, уходил, он остановил меня на пороге, дыша в лицо таким пропитым дыханием, что я задержи вал свое:
— Слушай еще: тоже и наперед заходи реже в дом-то, не скажи уж — затемно! Учти: бабье у нас распроклятое, враз сочинят заявление, припишут ей аморалку… А управдом наш, скажу тебе, такой землемер — подушку у тебя из-под головы отмежует! Дрянь народ…
5
Существовал в Ленинграде один крупный партийный бонза, с которым отец Юты учился когда-то в кадетском корпусе. Она решила толкнуться к нему, и мы с Р. посадили ее в полночь на ленинградский, «Красная стрела», экспресс.
Как раз покуда она — двое суток — отсутствовала, случилось у меня неожиданное интермеццо.
Катя, с которой это интермеццо связано, после первого нашего короткого разговора теперь часто подходила ко мне в перерыве и после лекции с вопросами и — так просто. Я уже знал из ее скупых слов о себе, что она разводка, живет с маленькой дочкой в правительственном доме и что у нее очень ответственная работа.
В последний раз, когда я кончил, она сказала: «Провожу вас до метро», — и мы вышли вместе.
— Завтра у меня вечеринка, — начала она у спуска в туннель. — Хотите прийти ко мне? Будет тоже Вадим, и я устрою вам с ним разговор. Случайно я знаю про ваши обстоятельства… Придете?
Она засуетилась, как школьница, ища в сумочке адрес, в ответ на мое согласие, и вспыхнула, когда я пожал ей обе руки, прощаясь.
— Там у охраны будет вам выписан пропуск! — крикнула сверху вдогонку мне.
Это был своего рода высший свет, у Кати, до сих пор мне незнакомый и пестрый: странная смесь модного, западного — причесок, шелков до пят, хрусталей на столе — с доморощенностью поз и движений. Пуще же всего — в разговорах, тостах, в самой повадке ощущалось мне: это веселились новые хозяева жизни. Я был тут чужероден, и потому, может быть, многие преувеличенно охотно со мною чокались: Состав был текуч приходили и уходили, выпив из рук хозяйки стопку, шелковые под импортными пиджаками косоворотки появился и исчез, не обратив на меня внимания, похожий на Павла Первого пустоглазый Катин свояк. Мне стало не по себе, и я начал потихоньку пробираться к прихожей, но Катя тотчас заметила; покачав отрицательно головой, показала пне на огромное, в стороне, кресло и сунул в руки какой-то альбом: «Посмотрите немного, сейчас все разойдутся»…
Было двенадцать у меня на часах, когда, пошаркав в прихожей и погоготав, все действительно разошлись, и Катя, почему-то приложив палец к губам, провела меня в смежную комнату.
Это была, очевидно, ее спальня и рабочая комната вместе: старинное с бронзой бюро и пишущая машинка рядом, кушетка, ковры на полу и мягкий, до полупотемок, свет. Из-за него, вероятно, я не сразу заметил поднявшегося с кушетки Вадима.
— Привет! сказал он, потягиваясь. — Ведь вот знал в тот раз, что обязательно еще встретимся, — такое чутье! Ну-с, работы у меня на всю ночь, поэтому буду краток. Дело этих двух стариков — гиблое. В том смысле, что изменить ничего нельзя. А вот эту девицу надо попытаться спасти. Чего вы воззрились? Мы не воюем с девчонками, но мести хотим чисто! Чем здесь можно помочь? Единственно — снять с вас дополнительное показание: мол, у контрреволюционной одной четы выросла с ней несхожая, добротного склада дочка. Показание приложат к делу…
— Насчет контрреволюционности я не смогу подписать!
— Не сможете? Ну, тогда — все! Него было и огород городить. Не сможете? — повысил он голос почти до визга, и скулу его, чуть пониже глаза, дернул тик. — О, проклятое интеллигентское чистоплюйство! Когда поймет ваша братия, что нафталинные кодексы чести надо менять, черт возьми, как меняют одежду, когда попадают из Каракумов в Заполярный край. Не сможете — ну и шагайте себе гордой походкой, а душеньку вашу повезут в телячьем вагоне! Поймите: старикам показание ваше — тьфу! Ничего ухудшить не может, а для нее…
Он помедлил, оглянулся на дверь, в которую скрылась Катя, передохнул…
Ладно, попытаюсь смягчить. Продиктую сейчас, как надо, а там подпишете ми нет ваше дело! Катя! позвал он. Ты нам нужна!
Когда Катя вошла и, включив лампочку, по-домашнему уселась за рабочее свое место, мне полегчало.
Он стал выговаривать свой стандартный следовательский канцелярит, а я следил за узенькой вязью, бегущей с Катиного прыткого карандаша, и думал о том, что имена и даты он называл наизусть, без заминки, только раз спросив у меня адрес, и что из этого надо сделать кое-какие выводы.
«Я неоднократно, — диктовал он, — бывал в их доме, разговаривая, главным образом, с их дочерью Ией, живущей в отгороженном от родителей помещении, и мне было ясно, что и отец и мать — антисоветские люди».
— Давайте так: «далекие от современной действительности», — предлагаю я.
— «… далекие от советской действительности люди, старорежимной идеологии и понятий».
— Может быть: «во многом оставшиеся в прошлом».
— Мы сочиняем не стихотворение в прозе! Что это за есенинщина: «оставшиеся в прошлом»?
— Вадик! просит Катя.
— Ладно, черт с вами! «Оставшиеся в буржуазно-помещичьем прошлом. Однако дочь их, Ия, выросшая в благотворных условиях советской школы, является здоровым и сознательным членом нашего советского общества", нашей молодежи; ее мечта — быть принятой в комсомол, чему препятствовала до сих пор враждебная настроенность ее родителей».
— Напишем «социальное происхождение» вместо враждебной настроенности, — говорю я.
Он не отвечает, добавляя еще кое-что о способностях Юты, «отмеченных мастерами советского балета» (опять-таки — по непонятной мне осведомленности), и кончает, хлопнув себя по ляжкам:
— Точка! — Перепечатывайте, подписывайте — и завтра я захвачу. Спокойной ночи, Катя, голубка! Пока! (это — мне).