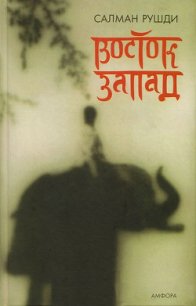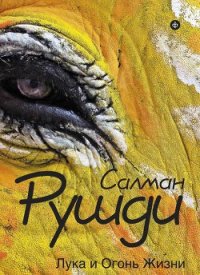Прощальный вздох мавра - Рушди Ахмед Салман (читаем книги онлайн бесплатно без регистрации .TXT) 📗
Мальчиком Авраам вдоволь наползался на четвереньках по полу синагоги, чуть не тыкаясь носом в голубизну плиток из древнего Китая. Он утаил от матери, что через год после бегства отец возник, воплощенный в керамике, на синагогальном полу в маленькой голубой шлюпке в компании голубокожих типов заграничного вида – они держали путь к столь же голубому горизонту. После этого открытия Авраам периодически получал от услужливо-изменчивых плиток новости о судьбе Соломона Кастиля. В другой раз он увидел отца в небесно-голубой сцене дионисийского веселья под традиционной ивой среди убитых драконов и огнедышащих вулканов. Соломон танцевал в шестиугольной беседке с беззаботно-счастливым выражением на керамическом лице – выражением, не имевшем ничего общего со скорбной миной, которую Авраам прекрасно помнил. Если отец счастлив, думал мальчик, то хорошо, что он уехал. С раннего детства Авраам инстинктивно пестовал в себе представление о главенстве счастья, и этот-то инстинкт повелел потом взрослому дежурному управляющему принять любовный дар, предложенный ему краснеющей и иронизирующей Ауророй да Гамой в камере-обскуре эрнакуламского склада...
По прошествии лет Авраам увидел на одной из плиток отца богатым и толстым, сидящим на подушках в позе царственного спокойствия в окружении подобострастных евнухов и юных танцовщиц; но всего через несколько месяцев другой двенадцатидюймовый «кадр» запечатлел его тощим оборванцем. И Авраам понял, что бывший синагогальный смотритель отринул все ограничения, развязал все путы, добровольно пустившись в плавание по кидающим то вверх, то вниз бешеным валам жизни. Он стал Синдбадом, ищущим счастья в коловращении земли и воды. Он стал небесным телом, которое смогло усилием собственной воли сойти с предначертанной орбиты и унестись сквозь галактики, заранее принимая все, что там может случиться. Аврааму казалось, что на преодоление гравитационных сил обыденности отец потратил весь свой запас волевой энергии и теперь, после первого и решительного преображения, он плывет без руля и ветрил, повинуясь волнам и приливам.
Когда Авраам Зогойби стал подростком, Соломон Кастиль начал появляться на полупорнографических изображениях, которые, заметь их кто-то еще, вряд ли были бы сочтены уместными в доме молитвы. Эти плитки обнаруживались в самых темных и пыльных углах помещения, и Авраам оберегал их от посторонних глаз, позволяя плесени и паутине скапливаться на них, покрывая самые непристойные места, где отец совокуплялся с немалым числом личностей обоего пола и разнообразного вида в такой манере, что любопытствующему сыну картинки представлялись не чем иным, как учебным материалом. Но даже в самый разгар похабной гимнастики стареющий странник теперь снова был мрачен, как в прежние годы, так что после всех скитаний его, выходит, вынесло на тот же берег тоски, откуда он пустился в путь. В день, когда у Авраама Зогойби сломался голос, у юноши вдруг возникло чувство, что отец возвращается. Он побежал по улочкам еврейского квартала к морскому берегу, где висели высоко вздернутые для просушки сети рыбаков-китайцев; но рыба, которую он хотел поймать, из воды не выпрыгнула. Уныло приплетясь в синагогу, он увидел, что на всех плитках, изображавших отцовскую одиссею, теперь другие картинки – банальные и анонимные. Придя в лихорадочную ярость, Авраам часами ползал по полу, выискивая остатки чудес. Без толку: его непутевый отец вторично канул, растворился без следа в плиточной голубизне.
Не помню, когда я в первый раз услышал семейную историю, которой я обязан своим прозвищем, а моя мать – темой для своих знаменитых «мавров», цикла картин, получившего триумфальное завершение в неоконченном и впоследствии украденном шедевре «Прощальный вздох мавра». Я словно знал ее всю жизнь, эту пылко-мрачную сагу, которая, добавлю, дала господину Васко Миранде тему для одной его ранней работы; но, несмотря на изначальное знание, я серьезно сомневаюсь в буквальной достоверности истории: уж слишком она прихотлива, уж слишком отдает перченой бомбейской байкой, уж слишком отчаянно озирается вспять в поисках опоры, подтверждения... Я думаю – и другие со мной соглашались, – что можно дать более простые объяснения и сделке между Авраамом Зогойби и его матерью, и, в особенности, случившейся якобы находке в старинном ларце под алтарем; ниже я приведу одну такую альтернативную версию. Но сейчас я излагаю одобренную и отшлифованную семейную легенду, которая, будучи весьма важной частью созданного моими родителями образа самих себя, а также существенным элементом истории современного индийского искусства, хотя бы по этим причинам существенна и весома, чего я не собираюсь оспаривать.
Мы достигли ключевого момента нашей истории. Вернемся ненадолго к юному Аврааму, стоящему на четвереньках, судорожно осматривающему пол синагоги в поисках отца, который только что бросил его во второй раз, зовущему его надтреснутым голосом, то соловьиным, то вороньим; и, наконец, нарушая запрет, он впервые в жизни осмелился приподнять голубую ткань с золотой каймой, укрывающую высокий алтарь... Соломона Кастиля там не было; вместо него фонарик подростка осветил старый сундучок, помеченный буквой «З», с дешевым висячим замком, который очень скоро был открыт, – ведь школьники обладают многими талантами, которые они во взрослой жизни утрачивают наряду со всей вызубренной на уроках белибердой. Вот так, сокрушаясь из-за беглого отца, он неожиданно раскрыл секрет матери.
Хотите знать, что было в сундучке? Единственное сокровище, достойное этого имени: прошлое плюс будущее. Еще, впрочем, изумруды.
И вот настал решительный миг, когда взрослый Авраам Зогойби с криком «Я ей покажу “Фитц”!» ворвался в синагогу и вытащил ларец из потайного места. Мать, ковылявшая вслед, поняла, что тайное становится явным, и почувствовала слабость в ногах. С глухим стуком она осела на голубые плитки, а Авраам тем временем откинул крышку и извлек серебряный кинжал, который тут же засунул за пояс; потом, часто и судорожно дыша, Флори увидела, как он достает и возлагает себе на голову ветхую старинную корону.
Нет, не золотой венец девятнадцатого века, дарованный траванкурским махараджей, а нечто гораздо более древнее – так, во всяком случае, мне рассказывали. Темно-зеленый тюрбан из ткани, ставшей от возраста почти иллюзорной, – столь непрочной, что казалось, будто проникающий в синагогу оранжевый свет заката для нее слишком груб, будто она вот-вот истлеет под огненным взором Флори Зогойби...
И с этого невообразимого тюрбана, гласила семейная легенда, свисали потемневшие от времени цепи из чистого золота, а на цепях красовались такие крупные и такие зеленые изумруды, что они казались искусственными. Эта корона четыре с половиной столетия назад упала с головы последнего властителя аль-Андалуса; она – не что иное, как корона Гранады, которую носил Абу Абдалла, последний из Насридов, известный под именем Боабдил.
– Но как она туда попала? – спрашивал я отца. Действительно, как? Этот бесценный головной убор мавританских монархов – как он оказался в сундуке у беззубой старухи, чтобы потом увенчать голову Авраама, еврея-отступника, моего будущего отца?
– Это, – отвечал отец, – было сокровище срамоты.
Не буду пока что оспаривать его версию событий. Итак, когда Авраам Зогойби подростком в первый раз обнаружил спрятанную корону и кинжал, он положил драгоценные вещи обратно в тайник, тщательно запер замок и всю ночь, весь следующий день трясся от страха перед материнским гневом. Но когда стало ясно, что его проступок не возымел последствий, в нем опять взыграло любопытство, и он снова выдвинул сундучок и отпер замок. На этот раз рядом с тюрбаном он нашел завернутую в мешковину маленькую рукописную книжицу в кожаном переплете с грубо сшитыми пергаментными страницами. Испанского языка, на котором она была написана, юный Авраам не знал, но он скопировал оттуда несколько имен и в течение последующих лет понял их смысл – главным образом благодаря тому, что задавал якобы невинные вопросы брюзгливому и нелюдимому старому свечному фабриканту Моше Когену, который в то время был признанным главой общины и хранителем ее преданий. Старый Коген был настолько потрясен тем, что молодой человек проявляет интерес к старине, что у него развязался язык и он пустился в рассказы о былом; сидевший у его ног красивый юноша жадно ловил каждое слово.