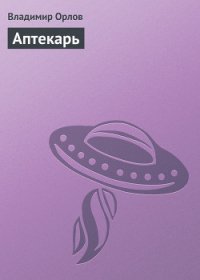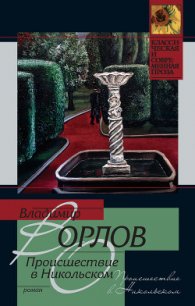Бубновый валет - Орлов Владимир Викторович (книга жизни txt) 📗
Обтекушины даже пытались выстроить в семейной комнате клетушку из фанеры, два с половиной на два. Но уединения в ней вышли сомнительными, свободных наслаждений не дали – звуки проходили сквозь фанеру, пусть и оклеенную обоями, и негодница Сонька, младшая сестра жены, пацанка тринадцати лет, проделала в фанере глазок. И ее можно было понять. Самого автора письма в возрасте десяти лет ребятишки водили на третий этаж их дома и за рубль давали посмотреть, что делают мужики с проституткой тетей Настей.
Пробовали Обтекушины снять комнату, не вышло из-за нехватки денег. Иногда потребность в близости с женой (а у нее с ним) случалась такая нестерпимая, что они ходили постанывая в ожидании, что комната станет свободной хоть на три минуты (Обтекушин готов был даже порезать себя чем-нибудь или обжечь, чтобы болью отменить охоту). Бросались и на чердак и там соединялись под балками, под веревками с чьими-то стираными подштанниками, стоя, почти не раздеваясь. В теплые ночи ходили в углы двора, пока их с одной из скамеек не согнали визгливые, наглые псы, выпущенные на прогулку. Приятели Обтекушина по работе, каким он по простоте душевной открывал свою маяту, кто со словечками, кто с ухмылками понимания (сами жили не легче) советовали облегчать томление организма с помощью Дуньки Кулаковой. “Только руки меняй!” – громыхали при этом. Занятие это казалось Обтекушину дурным. Но в их квартире и призывать на помощь Дуньку Кулакову было делом трудновыполнимым. В ванную вечно возникала очередь, а над дверцей ее имелось оконце, куда любая ехидна могла заглянуть. В тесноте сырого, загаженного туалета, в особенности при поломке смывного бачка, не было возможностей для возбуждающих видений, томление организма приходилось снимать лишь тупым действием. А в дверь могли и постучать. Да и вдруг просто за дверью кто-то стоял и догадывался? Каково это было для тихой, стеснительной натуры Обтекушина. А кончилось все тем, что у старухи Бобковой, вкушавшей болгарскую фасоль в томате, случилось расстройство, и она стала чуть ли не головой пробивать место в туалете. Обтекушин выскочил в коридор. Ему было противно. Омерзительно было.
После этого Обтекушин запил. Но выпивки и даже запойные недели облегчения ему не дали. И он сознавал, что облегчения искал лишь себе, оставляя жену в одиночестве, это было нехорошо, он ее любил и жалел. А потому он сносил обиды и попреки от нее, лишь дважды бил жену, и то не бил, а ударял, то есть после одного нанесенного удара не продолжал свирепствовать, а готов был просить прощения. Он носил в себе вину перед Любой. Ее досады, порой матерно выражаемые, Обтекушин понимал, шли и оттого, что у них нет ни парнишки, ни дочурки. В медовые месяцы они предохранялись, полагая, что им пока не до детей. А теперь при близком сопении других и тем более на чердаке или на дворовой скамейке никого не могли зародить. Обтекушин, уговорив стыд, ходил к врачам, но ничто не помогало. Кончилось все печально. Люба стала изменять ему, в чем призналась сама, не утаив подробностей. “Да лучше я на работе (Люба служила конторщицей на “Трехгорной мануфактуре”), на столе, среди бумаг и калькуляторов, чем с тобой, недотепой, на чердаке под кальсонами Аверьянова!” А там у нее появился хахаль с отдельным ключом (все же при пересказе письма Обтекушина я употреблял и его выражения, вспомнились…).
Все ждали последних слов письма. И выяснилось, что Обтекушин ни о чем не просил. И ничего не требовал. Просто он любил свою жену и хотел бы объясниться с ней, но сделать это ему было стыдно. Тогда он и взял старенькую тетрадь в линейку. Люба же читать его исповедь отказалась, заявив, что у них уже ничего не выйдет, ну поплачет она над тетрадкой, но ничего уже не выйдет, лучше бы он завел себе женщину. Но Обтекушин вспоминал старуху Бобкову у двери туалета, и мысли о заведении женщины были ему противны. Отсюда, видно, и рассмотрел Миханчишин в авторе письма импотента. Будучи давним читателем нашей газеты и уважая ее, Обтекушин решил отправить свою “писанину” (его слова) нам. Сам не зная зачем…
– Вот и все, – сказал Миханчишин вяло, будто устал.
– Ты, Миханчишин, подлец! – встал Глеб Ахметьев, ранее мной не замеченный. – Человек страдал, душу излил, ища понимания. А ты его ради своей прихоти попытался превратить в посмешище!
– Вы, Глеб Аскольдович, – растерялся Миханчишин, – вы, конечно, канцлер… Но насчет подлеца-то… Не хотели бы вы взять свои слова обратно?
– Я повторяю, Миханчишин, ты – подлец, – уже тише и холодно произнес Ахметьев.
– Этак я и удовлетворения могу потребовать. – Миханчишин пробовал рассмеяться, очки с ботиночным шнурком стянул с переносицы. – Но каковы условия-то будут? Кулаками махать мы, пожалуй, не мастаки. А насчет стрелкового оружия, то я в Кустанае охотничал…
– Все ваши условия будут для меня хороши, – сказал Ахметьев и направился было к двери.
– Эх, Глеб Аскольдович, Глеб Аскольдович! – остановил его Миханчишин. – Благородно ли вы поступаете? Разве мы с вами на равных? Кто я? Шут! Писака без царя в голове! Взгляд на меня справедливо – косой… А вы – с царем в голове. И вы – у царей голова. Сейчас вас позовут на какую-нибудь ближнюю или дальнюю дачу, вы там слово отольете, и меня солью посыпят, как молочного поросенка.
– Более мне нечего сказать, присылайте секундантов, – и Глеб Ахметьев удалился.
– Миханчишин, дайте-ка письмо, – и старик Вайнштейн взял из рук Дениса синюю тетрадь, – оно расписано в наш отдел.
– Пожалуйста… Но я не хотел никого обидеть, – стал вдруг оправдываться Миханчишин. – Ни автора, ни собравшихся… И скандала не хотел… Просто желал вызвать свежий взгляд на проблему…
Я чуть было не пустил в ход правую руку, но посчитал, что для моей руки Миханчишин запретительно невесом и тщедушен. Да и после слов Ахметьева мое действие могло быть признано глупейшей и запоздалой выходкой.
– Буду очень удивлен, если отыщутся для тебя секунданты.
– А ты-то еще что? – обернулся Миханчишин, скривился, в глазах его читалось: “Фу, а это-то ничтожество что лезет?” – Ты небось крысишься на меня из-за этой… из-за Цыганковой?