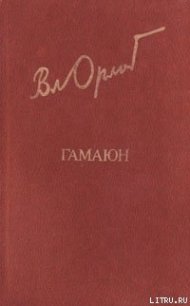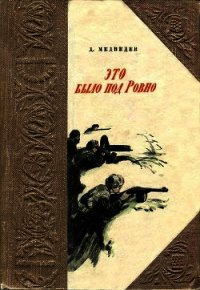Конченые - Гордон Катя (список книг .txt) 📗
5…
А теперь мы все нажрались и катаемся в метро. По кольцевой. Урюкова ведет себя неприлично.
– Урюкова! Хватит заниматься эксге…эксгибиционизмом! – кричу я.
Урюкова не слышит. Лукьянов ржет без остановки и смотрит на Урюкову. На Лукьянова с презрением смотрит бабка в шубе неясной породы.
Мы начали напиваться еще на философии. Повода не было. Был Кант. Было скучно и мутно. Бардина не пила. Бардина курила.
– Урюкова, отстань от мужчины! – кричу я.
Урюкова поднимает юбку и демонстрирует мужчине худые птичьи ноги с коленками внутрь. Мужчина достает книгу и смотрит в нее. «Парк Культуры…» Арсентьев слушает музыку, закрыв глаза, но тоже ржет. Он запрокинул голову и вытянул ноги в проходе. Лукьянов ржет больше всех. Он закатывает глаза, хватает ртом воздух и висит на поручне.
– Урюкова!
В глазах плывет. Чужие лица смотрят на нас зло и устало. Скворцов и Медведев пристают к девушке с красными губами. Мы передаем друг другу коньяк. Лица хором говорят: «В общественном месте – хулиганы – двери закрываются…»
По кольцевой. Странно хорошо.
Иногда люди наполняют вагон до отказа и мы теряем друг друга. Тогда мы не ржем. Вагон пустеет – мы находим наши лица и ржем снова. Бардина тоже ржет. Но она ржет по – другому – она курила. Дети смотрят на нас – и тоже, смущаясь, поглядывая на родителей, ржут. Родители их берут за руку и уводят.
Входят калеки – собирают налог на совесть. Мы платим за отрезанные ноги. Мы предлагаем им выпить. Мы ржем.
– Вот, блядина! – зло говорит Урюковой дед с серой мордой.
Урюкова садится и закрывает лицо руками. Урюкова плачет. Мы ржем.
Все плывет. Круглые лампы, как улитки, ползут по потолку, оставляя за собой белые следы. Весь потолок в полосах и улитках. Урюкова поднимает заплаканные, акварельные глаза, встает и окидывает взглядом вагон. Она останавливает взгляд на мне. Мы перестаем смеяться. Только Лукьянов еще ржет. Он закатывает глаза и виснет на поручне.
– Мы все умрем… – выдыхает Урюкова.
6…
Смерть – наркотики – декаданс – банально, как сосиски на ужин. Но когда больше нечего есть. Сосиски – это нормально. Это шесть, а то и девять слизистых колбасок в полиэтилене, которые ешь, не думая о том, что ешь, которые ешь автоматически, окуная в кетчуп или в майонез, или никуда не окуная. И когда ты чувствуешь этот вкус – и больше ничего другого – можно ли тебя в этом обвинять?
Хотя… Мама тоже ест сосиски, но чувствует гораздо больше. Уже давно на северной стене нашей квартиры висит фотография мессии Филоненко. Он смотрит на меня пронзительно, как собака у магазина, когда несешь те самые сосиски. И мама верит его собачьим глазам, и мама чувствует в нем божественное начало. И выполняет языческие обряды, и читает специальную литературу. А, казалось бы, тоже сосиски…
Раньше мама была лидером ячейки комсомольского движения. Раньше она строила БАМ. Раньше она распространяла пищевые добавки «Гербалайф», раньше она была женой моего отца. Во все это она искренне верила – и работала бескорыстно. Теперь в нашей однокомнатной квартире живет фотография мессии, в прошлом – обыкновенного мента Филоненко. В отличие от моей мамы, он делает успехи в карьере. Из пыльных залов Домов культуры Филоненко перебрался в свой собственный город Солнца в Сибири, где благополучно проповедует и бронирует места в Раю бывшим бамовцам и комсомольцам. Мама очень хочет присоединиться к ним, но боится и долгого пути, и нездешней хвори, и меня одну оставлять.
7…
Я долго пытаюсь попасть ключом в дверь нашей квартиры. Наконец, я открываю ее. В нашей однокомнатной квартире дверь открывается почти сразу в комнату – и потому перед моим взором сразу предстают все действующие лица моего пьяного спектакля. Две незнакомые тетки в платках быстро начинаю пихать что-то в пакеты. Мама, опустив глаза, помогает им.
– Привет, доча, – говорит она.
Я молча прохожу мимо и сажусь за свой письменный стол. Сижу, не шевелясь, жду, пока тетки уйдут.
– Спасибо тебе, сестра… – суетливо благодарят они мать.
– Что вы. На благое дело… – тихо отвечает она.
– Увидимся на встрече с Учителем… Приходи… – говорят ей.
– Увидимся, сестры… – отвечает мать.
– Дочь приводи!… – советуют ей.
– Щаз! – громко говорю я.
– Гордыня – грех! – быстро говорит одна из теток и ныряет за дверь.
Когда мы остаемся одни – мне становится легче.
– Мам, когда кончится этот проходной двор?
– Помогать надо ближним… Ужинать будешь?
– Не буду… – говорю я и падаю на кровать.
Вдруг на стенке над моей кроватью я замечаю фотографический портрет христообразного Филоненки, который угрожающе поднял руку для крестного знамения. Я тут же срываю его:
– Еще раз ты повесишь его в моем углу – я уйду!
Пыльный «медведь – вонючка» с душой из папье-маше смотрит на меня бусиничными глазами. Когда-то, точно помню: в нем билось сердце.
Закрываю глаза: в ушах гудят пароходы нашего вожделенного моря.
8…
Медведев иногда утверждает, что он – «коммунист». Что под этим подразумевает Медведев, я точно не знаю. Я также не знаю, зачем Медведев пошел учиться на филологический факультет. Он приторговывает изъятым его друзьями-таможенниками парфюмерным товаром. Он щедро дарит нам духи и кремы – а мы, в свою очередь, щедро дарим их еще кому-нибудь. Медведев типичный street smart, и потому, даже в самые голодные времена наших совместных тусовок, он всегда добывал конфискованную колбасу или вино. Медведев хочет в политику – он спьяну проговорился мне. И я точно знаю, что у него все получится.
– У меня все получится! – уверенно говорит Медведев, – мы еще тогда… Когда квартирами занимались. Ну, бомжей расселяли. Знаешь, какие там дела были? И ничего! Прорвались. А там я правила знаю: кому какой процент надо. Главное– знать правила!
И мне становится спокойно и хорошо от того, что скоро там, сверху, будет, пусть по их правилам, пусть прожженный троечник, но свой.
– Медведев, вот когда ты станешь политиком, ты мне дашь квартиру?
– Я, Оль, обещать не могу, но все что от меня зависит…
Я включаю телевизор – и на мгновение мне кажется, что в новостях показывают Медведева: он жмет руку какому-то иностранному политику и иностранный политик тоже жмет Медведеву руку. И счастливые расселенные бомжи с партийными значками пьяно и гордо отдают Медведеву честь.
9…
Просыпаюсь. Мамы нет. Сижу на кровати – слушаю новый день. Дворники шуршат метлами, нагибаясь так низко, что кажется: у них вовсе нет глаз – а сразу после зада начинается шапка. Нужно искать тапки и идти в ванную. Кран уныло рыгнет перед тем, как польется теплая вода. Все будет как всегда. Голова трезвеет ото сна – я нащупываю ногой тапки. Душно. Звуки исчезают – я чувствую, что именно с этого дня, с этого обычного утра, – начинается новое время моей жизни. В глазах темнеет. Я чувствую, что выдышала воздух мне положенный в этой квартире, я высмотрела все до дыр – до тыльной стороны – кажется: дворники устали шуршать для меня метлами, и нужно бежать. Бежать без цели, обманывая себя движением – робкая попытка борьбы с безнадегой. «Мы все умрем…» – вспоминаю я Урюкову.
В квартире стоит душный, пыльный свет. Мамина кровать убрана. Филоненко, как обычно, улыбается мне с фотографии над маминой кроватью. Я скалюсь ему в ответ. А за окном, со стены соседнего дома, скалится депутат с плаката. И вот-вот станет весело жить… А через дорогу дом, в котором живет мой отец. Темная дыра его окна засасывает унылой, тягучей памятью. Спотыкаюсь о стул. Как мало места для того, чтобы жить! Мы живем, как две рыбки в аквариуме – постоянно натыкаясь носами на стены. Мама оставила мне корм.
Я иду в ванную. Кран кряхтит и ругается – вот льется вода. «Мы скоро умрем…» – вертится в голове. Пора сваливать – понимаю я.