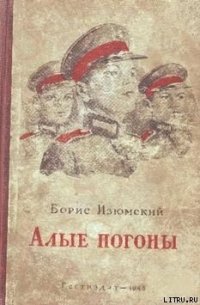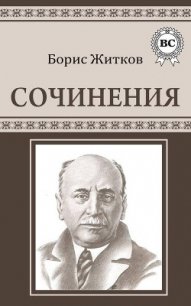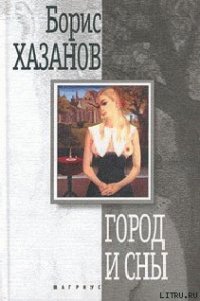Портрет незнакомца. Сочинения - Вахтин Борис Борисович (версия книг txt) 📗
Во время процесса Владимира Марамзина (1975) Вахтин вызвал такое озлобление властей упорным отказом от дачи показаний, что суд вынес специальное постановление в его адрес, тут же пересланное по месту работы — в Институт востоковедения.
С этого момента перед Вахтиным закрывается возможность заниматься научной работой. Докторскую диссертацию не утверждают к защите, выезд на конференции запрещают, статьи не печатают. И тогда, чувствуя, что терять ему уже нечего, он решается на то, чему долго противился, что долгие годы считал неверным для себя путем: начал печататься за границей в журналах, принял участие в зарубежном издании альманаха «Метрополь». Издательство «Ардис» в Америке планировало выпустить первый сборник его прозы, шла подготовка к печати социально-исторических и религиозных трактатов.
Но этих своих книг Борис Вахтин уже не увидел. Он умер 12 ноября 1981 года.
Его роль в диссидентском движении была очень заметной, но определение «диссидент» вряд ли подойдет ему. Много размышляя о судьбах России в прошлом, настоящем и будущем, он никогда не навязывал другим собственных программ управления страной. Но во что он страстно верил, в чем стремился соучаствовать — это в попытках объединения «людей доброй воли». Лозунгом его судьбы могли бы стать строчки из песни Окуджавы: «Возьмемся за руки друзья, / Чтоб не пропасть поодиночке». Как горячо он кидался на защиту собратьев по писательскому цеху, без всяких соображений о собственной безопасности! Как искренне и глубоко переживал отъезды друзей в эмиграцию, начавшиеся в 1970-х! Как огорчался раздорами, которые немедленно начались между эмигрантами, вырвавшимися из-под давящей — но и объединявшей их! — власти КГБ. Возможно, именно эти раздоры повлияли на его решение остаться в России, несмотря на то, что дышать там ему было все труднее и труднее.
Непредсказуемый
«В нашем дворе бывает часто такой пережиток, что отправляются пройтись, сложившись, а иногда и за счет одного, если есть… И пройдясь, счастье имеют в виде занятости самими собой, выясняя насчет дружбы и все говоря по правде, но только чтобы не обижаться» (Вахтин. «Так сложилась жизнь моя…»).
Критики, писавшие о прозе Вахтина, справедливо указывали на уроки Бабеля, Зощенко, Платонова. Уже в названии повести «Дубленка» слышна благодарная отсылка к творчеству Гоголя («Шинель»), а среди героев мы встречаем нового Хлестакова советских времен — Эрнста Зосимовича Бицепса. Но при всем этом стилистическая неповторимость произведений Вахтина оставалась несомненной для всех, кто умел ценить их, и для всех, кто запрещал их опубликование.
Вдумчивую характеристику прозы Вахтина можно найти в книге литературоведа Марка Амусина «Город, обрамленный словом» (Италия, Пизанский университет, 2003): «Взаимное наложение разных риторических установок, игра стилевых бликов сообщают тексту плодотворную языковую напряженность, в поле которой снимается противоречие между пафосом и иронией, серьезностью и пародийностью. Слово Вахтина одновременно густо окрашено биографическим опытом персонажей повести, реалиями исторического времени и парит над этой плоскостью в сфере свободной артистической игры».
Само название одной из повестей — «Абакасов — удивленные глаза» — ненавязчиво указывает на тот фермент, без которого невозможно никакое творчество: удивление. Оно может быть окрашено восторгом, страхом, надеждой, сомнением, даже чувством протеста. Но если нет удивления, ради чего человек станет открывать рот? Чтобы покрасоваться своим краснобайством? Чтобы обругать или восславить тех, на кого ему укажут власти предержащие?
Создав литературную группу «Горожане», Вахтин попытался объяснить читателям и редакторам, что объединяло участников группы, и написал подобие литературного манифеста, в котором были такие строки: «С читателем нужно быть безжалостным, ему нельзя давать передышки, нельзя позволять угадывать слова заранее, каждое слово должно взрываться у него перед глазами, нападать неожиданно, в секунды ослабленного сопротивления и незащищенности. Любая игра, любые обманы, разрушение привычного строя фразы, неожиданное разрастание придаточных, острейшая мысль, спрятанная где-то в причастном обороте и впивающаяся в него оттуда, как из засады, все годится в этой борьбе для победы над всё читавшим и всё видавшим на своем веку современником».
Возможно, Вахтин и сам порой верил, что все дело только в свежести языка, что рано или поздно, совместными усилиями талантливых людей, можно будет разъяснить запуганным редакторам, насколько безопасно добавить это новое в литературный поток — как бы немного перчика к проверенному и одобренному супу. Но сейчас, оглядываясь на советскую эпоху, мы ясно видим, что противостояние между творцами и охранителями имело гораздо более глубокие онтологические корни.
Любой человек, входя в жизнь, оказывается лицом к лицу с загадками бытия и жаждет получить ответы, на главные вопросы, всплывающие в его сознании: что есть я? что есть мир? что я должен делать? на что могу надеяться? Любая историческая эпоха, любая государственная власть предлагает — навязывает — ему свои ответы и пытается учредить монополию на них. Напротив, любое творчество начинается с удивления перед загадками бытия, с отбрасывания существующих ответов и с мучительных попыток найти свои. Именно поэтому настоящий художник всегда оказывается в конфликте с окружающим его миром.
Бабель, Платонов, Зощенко, Булгаков вносили гротеск и абсурд в свои произведения не потому, что абсурд стал моден, а потому, что только фантасмагория могла создать образный мир, в какой-то мере адекватный тому, что разворачивала перед ними небывалая эпоха. Точно так же и Борис Вахтин, и его современники — Андрей Битов, Иосиф Бродский, Виктор Голявкин, Владимир Марамзин, Валерий Попов, Генрих Шеф — искали новые формы художественной выразительности не из желания поразить и привлечь читателя, а потому, что традиции реалистического искусства не давали им возможности приблизиться к пониманию сущности жизни, их окружавшей.
Бытию противостоит Небытие. Оно грозит человеку в физическом плане разрушением и смертью. В плане умственно-рациональном оно грозит пустотой и бессмыслицей. В плане этическо-религиозном — виной и отчаянием. И у человека всегда есть выбор: жить лицом к лицу с Небытием, не отводить внутреннего взора от всех опасностей, таящихся в нем; или повернуться к нему спиной и забыть все летящие из него грозные вопросы, леденящие сомнения, обжигающие страхи, изматывающие противоречия.
Настоящий художник смело выбирает первый вариант. Ибо в глубине души он ощущает свое назначение быть разведчиком, дозорным, вахтенным, вглядывающимся в темноту перед нами и готовым предупреждать о надвигающихся на нас опасностях. Но тем самым он нарушает покой тех, кто сделал второй выбор. Люди, травившие Зощенко, Ахматову, Пастернака, Бродского, правильно ощущали опасность, которую несли эти художники всеобщему сговору самоослепления и идейного энтузиазма. Точно так же и стилистические искания Вахтина и его сверстников-соратников выдавали их неприятие ответов, утвержденных и одобренных многочисленными партийными съездами и пленумами.
Вспоминается, что у нас в Политехническом институте партийный секретарь — незлой и покладистый в жизни человек — запретил однажды исполнение на готовившемся вечере студенческой песни, распевавшейся уже повсюду. Мы были в полном недоумении и спросили его «почему?». Он простодушно сознался: «Как же вы можете петь „и нигде таких пунктиров нету, / по которым нам бродить по свету“? Ведь перед вами партия открыла все дороги, а вы — пунктиров нету!»
Редакторы, запрещавшие рассказы Вахтина и его товарищей, не были так наивны, и они выработали формулу, против которой трудно было что-нибудь возразить. «Понимаете, — говорили они, — в вашем произведении есть неуправляемый подтекст, и он может в сознании читателя обернуться идейно нежелательными интерпретациями». Объяснять им, что полностью «управляемый» — то есть предсказуемый — текст возможен только в плоском, мертворожденном произведении, было бесполезно.