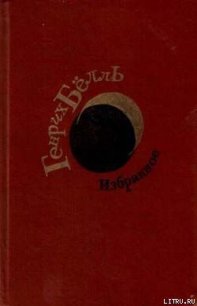Когда началась война - Бёлль Генрих (серии книг читать бесплатно .txt) 📗
Когда мы начали грузить сапоги из товарных вагонов в грузовики, было еще светло, по пока мы грузили сапоги из грузовиков в товарные вагоны, стало уже темно, а когда мы грузили сапоги из товарных вагонов снова в грузовики, было еще темнее, а потом рассвело, и мы грузили прессованное сено из грузовиков в вагоны, и еще долго было светло, и мы все грузили это сено из грузовиков в вагоны; а потом снова стемнело, и ровно в два раза дольше, чем мы грузили сено из грузовиков в вагоны, мы грузили его из вагонов в грузовики; за это время к нам один раз приезжала полевая кухня, и каждый из нас получил много гуляша, и немного картошки, и настоящий кофе, и сигареты, за которые не надо было платить; все это нам давали, кажется, в темноте, потому что я помню голос, который произнес: «Натуральный кофе и бесплатные сигареты – это верный признак войны», но лица, связанного с этим голосом, у меня в памяти не осталось. Когда мы строем возвращались в казарму, уже снова рассвело, а едва мы свернули в улицу, ведшую к казарме, как повстречали первый выступающий батальон. Впереди шел оркестр и играл: «Ах, зачем, ах, зачем…», потом шла первая рота, за ней бронемашины, а следом – вторая, третья и, наконец, четвертая с тяжелыми пулеметами. Ни на одном лице, просто ни на едином я не заметил признаков воодушевления; на тротуаре стояли, конечно, люди, и девушки тоже, но я не видел, чтобы хоть одну солдатскую винтовку украсили цветами; пет, воодушевлением и не пахло.
Постель Лео стояла нетронутой; я отпер его шкафчик – такая степень доверия между нами вызывала глубокое неодобрение будущих учителей, которые, сокрушенно качая головой, говорили: «Это уж слишком»; все там было на своих местах: фотография ольденбургской девчонки, которая стояла, опираясь на велосипед, под березкой; фотография родителей Лео на фоне их крестьянской усадьбы. Возле окорока лежала записка: «Меня направили в штаб дивизии, скоро дам о себе знать, возьми весь окорок, у меня есть еще. Лео». Не прикасаясь к окороку, я запер шкафчик; есть мне не хотелось, а на столе лежал сухим пайком наш двухдневный рацион: хлеб, баночки паштета, масло, сыр, мармелад и сигареты. Один из будущих учителей – тот, что был мне наиболее неприятен, сообщил, что его произвели в ефрейторы и на время отсутствия Лео назначили старшим по комнате; затем он приступил к дележу продуктов; это длилось очень долго; меня интересовали только сигареты, а их он раздавал в последнюю очередь, потому что сам не курил. Когда я, наконец, получил свою долю, я тут же вскрыл пачку, лег, в чем был, на постель и закурил; от нечего делать я стал наблюдать, как едят остальные ребята. Они мазали на хлеб толстый слой паштета – в палец, не меньше, и обсуждали «превосходное качество масла». Покончив с едой, они спустили на окнах шторы затемнения, разделись и легли в постель; было очень жарко, но мне не хотелось раздеваться; сквозь щели у краев штор в помещение пробивалось солнце, и в такой полосе света сидел вновь испеченный ефрейтор и нашивал па мундир ефрейторский уголок. Нашить его – дело нелегкое: уголок должен находиться в определенном, точно обусловленном расстоянии от шва, кроме того, надо следить, чтобы он не оказался перекошенным; учителю пришлось несколько раз спарывать нашивку; два битых часа, если не больше, просидел он, спарывая и пришивая один уголок, казалось, терпение у него никогда не лопнет. Каждые сорок минут по двору проходил полковой оркестр, я слышал, как «Ах, зачем, ах, зачем» звучало сперва у строения номер 2, потом у строения номер 7, потом у номера 9, потом у конюшен, музыка приближалась, становилась все громче, затем удалялась, затихала; это повторилось ровно три раза, прежде чем ефрейтор пришил себе уголок на рукав, и то он был пришит криво; к этому времени у меня кончились сигареты, и я заснул.
После обеда нам уже не надо было ничего грузить – ни сапоги из грузовиков в вагоны, ни прессованное сено из вагонов в грузовики; нас отправили в распоряжение обер-фельдфебеля, полкового кладовщика, который считал себя гением по части организации труда; он потребовал в помощь столько людей, сколько было номеров в списках полученного обмундирования и снаряжения; к одним только плащ-палаткам он приставил двух солдат да еще третьего в качестве писаря. Первые два выносили из кладовой плащ-палатки и расстилали их, аккуратно расправив, на бетонном полу конюшни; как только весь пол был устлан, первый солдат клал на каждую плащ-палатку по два подворотничка, второй шел за ним следом, раскидывая по два носовых платка, потом выступал я с котелками и прочей посудой и так далее, пока все предметы, для которых, как выражался фельдфебель, «размеры роли не играют», не были разложены, а тем временем сам фельдфебель вместе с «более грамотной частью» своей команды готовил те вещи, для которых размеры играют роль: мундиры, сапоги и тому подобное; у него кипами лежали солдатские книжки, и по указанным там весу и росту он подбирал мундиры и сапоги да еще клялся, что все будет впору, «если только эти скоты не разжирели на гражданке»; все это надо было делать очень быстро, безостановочно, и это делали очень быстро, безостановочно, а когда все обмундирование, наконец, разложили, в конюшню ввели мобилизованных и указали им их плащ-палатки; каждый связал свою в узел и, взвалив на плечи, отправился в казарму переодеваться. Почти ничего не приходилось менять, а если и приходилось, то лишь потому, что мобилизованный и впрямь «разжирел на гражданке». Так же редко случалось, чтобы чего-нибудь не хватало в комплекте: сапожной щетки, например, или там ложки с вилкой, а если и не хватало, то тут же выяснялось, что кто-то другой получил две сапожные щетки или два прибора, – обстоятельство, подтверждавшее теорию фельдфебеля, что мы недостаточно механически работаем, «слишком утруждаем свой мозг». Что до меня, то я свой мозг нимало не утруждал, и поэтому недостачи котелков и мисок в комплектах обнаружено не было.
В тот миг, когда первый солдат из очередной роты вскидывал на плечи свой узел, первый из нашей команды должен был расстелить на освободившемся месте новую плащ-палатку. Все шло у нас как по маслу, а вновь произведенный ефрейтор тем временем отмечал каждый предмет в толстой книге. Почти во всех графах он должен был проставлять единицу, и только там, где были обозначены подворотнички, носки, носовые платки, сорочки нательные и кальсоны, он проставлял двойки.
И все же выпадали «мертвые минуты», как их называл фельдфебель, и нам разрешалось употребить их на то, чтобы немного подкрепиться. Мы располагались на топчанах конюхов и ели бутерброды с ливерной колбасой, а иногда с сыром или с пластовым мармеладом, а когда и на долю фельдфебеля выпадали две-три «мертвые минуты», он подсаживался к нам и объяснял, в чем заключается разница между воинским званием и должностью; ему казалось необычайно интересным, что сам он – унтер-офицер интендантской службы («Это моя должность»), а чин имеет фельдфебеля («А это мое воинское звание»). «Таким образом, – говорил он, – даже ефрейтор может быть унтер-офицером интендантской службы, да что там ефрейтор – рядовой солдат». Эта тема никак не давала ему покоя, и он все придумывал и придумывал новые случаи несоответствия звания и должности – некоторые из них свидетельствовали о том, что его фантазия может толкнуть его на путь государственной измены. «Так что вполне может случиться, – говорил он, – что ефрейтор станет командиром роты, а то и батальона».
Десять часов кряду я раскладывал котелки и миски по плащ-палаткам, потом шесть часов спал, а потом снова десять часов раскладывал котелки и миски; затем снова шесть часов спал и за все это время не имел никаких известий от Лео. Когда пошли третьи десять часов раскладывания котелков и мисок, ефрейтор во всех графах, где надо было писать единицы, стал писать двойки, а где надо было двойки – единицы. Его сменили и поручили ему раскладывать подворотнички, а второго молодого учителя назначили писарем. Меня же так и оставили на котелках и мисках: фельдфебель считал, что я, на удивление, успешно справляюсь с порученным заданием.