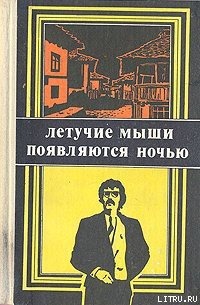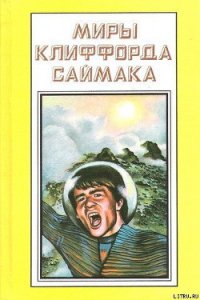Ночью на белых конях - Вежинов Павел (список книг TXT) 📗
Воспоминание это никогда не забывалось, никогда ни на миг не покидало его души. Он берег его, как скупец, и, стремясь сохранить эту картину во всей ее свежести и чистоте, старался не вызывать ее в памяти слишком часто. Даже став гимназистом, а потом студентом, он вел себя с девушками застенчиво и робко, как с переодетыми царевнами. Мужчины были мужчинами, людьми из плоти и крови — добрые, сердечные или, наоборот, враждебные, алчные и злые, они во многом отличались от него самого, но все-таки это были мужчины. А про женщин он уже знал, что каждая из них скрывает под одеждой — все равно бедной или роскошной — неслыханное совершенство и красоту. Так он думал и верил в это. И когда много лет спустя руки его впервые обняли голое женское тело, он вдруг почувствовал себя ограбленным и разочарованным. Это было не то, совсем, совсем не то. Правда, тело было живым и горячим, оно прерывисто дышало и выскальзывало из его дрожащих рук, но как неизмеримо далеко было оно от совершенства. Прежде всего оно оказалось не таким гладким, как ему представлялось: его пальцы ощущали неровности, родинки, волоски. Так в его собственных руках умерла иллюзия, которую он потом всю жизнь ничем не мог заменить. Только раз ему показалось, что он нашел то, что искал, но и этот обман длился не более нескольких месяцев.
По улице снова проехала поливальная машина, на этот раз краны у нее были прикручены, вода еле журчала. Академик встал и медленно подошел к окну. Он знал, что уснуть будет нелегко. Хорошо бы отвлечься, снять напряжение какими-нибудь простыми и будничными мыслями, но в его жизни почти не случалось ничего простого и будничного. Ничего — только каждодневный труд, безвкусная пища, которую готовила жена, и глубокий, похожий на смерть сон, после которого он чувствовал себя невесомым и каким-то пустым. Ни событий, ни испытаний судьбы. Разве только время от времени небольшие испытания совести, чаще всего на заседаниях ученого совета, когда приходилось голосовать.
Последним страшным испытанием была смерть отца. Он нашел его распростертым на полу спальни. Отец казался почти мертвым, только губы его время от времени шевелились, как у засыпающей рыбы. Кровоизлияние в мозг. Двое суток Урумов провел в клинике возле его постели. На третьи сутки отец умер, так и не приходя в сознание. Ночь была ужасная. Американские бомбардировщики волнами накатывались на город, все кругом корчилось и рушилось с адским треском. Даже странно, что в этом все заполнившем грохоте так ясно слышалось зловещее гуденье самолетов. Клиника содрогалась, с потолка прямо на постель умирающего сыпалась штукатурка. Он не двинулся с места, даже не подумал о смерти. Когда, наконец, все кончилось, наступила оглушительная тишина, лишь время от времени нарушаемая взрывами бомб замедленного действия. В палате стояла непроглядная тьма, и он поднял затемняющую окно бумажную штору. Комната сразу же осветилась огнем пожаров, по стенам словно бы потекла кровь. Тяжело пахло дымом, развалинами, горелой резиной. Где-то неподалеку, словно факел, полыхал какой-то склад, фонтан огненных искр рвался к продырявленному небу. Отец все еще дышал, правда, еле заметно. Какое счастье, что ему не пришлось переживать ужасы последних дней.
Отец умер на рассвете. Сын даже не заметил, когда отлетело его последнее мгновенье. Несмотря на ужасную, полную смерти и разрушения ночь, он никак не мог поверить, что это случилось, и по-прежнему безучастно сидел на стуле, чувствуя, что в нем самом что-то умерло навсегда, — не было сил даже сдвинуться с места. Холодное тело на узкой, засыпанной штукатуркой кровати было, казалось, его собственным. Очень страшное ощущение — он и представить себе не мог, что такое бывает.
Домой он пришел, когда уже совсем рассвело. Серое, холодное и страшное утро, апокалиптическое зрелище разрушенного города, хаос электрических и трамвайных проводов, рухнувшие стены, вколоченные в землю рельсы. Людей не было видно, хотя город еще горел и густой ядовитый дым стелился по мерзлым улицам. Как привидение, брел он по этому безлюдному призрачному городу, похожему на кошмар параноика. А подойдя к дому, к старому своему желтому дому, он увидел, что бомба просто разрезала его пополам и сровняла с землей фасадную часть — с лестницами, с козырьком непрозрачного голубого стекла, по которому в далеком его детстве, голый я радостный, танцевал ночной дождь. От его комнаты остался только один угол — кровать, желтая стена и на ней темный зеленоватый прямоугольник там, где еще вчера висел портрет матери.
Не надо об этом думать, лучше пойти и лечь спать. Таких испытаний у него больше не будет. Терять ему больше некого, кроме разве жены. Но жена много моложе его, и здоровье у нее отличное. Академик потушил свет в кабинете и обошел квартиру, щелкая по дороге выключателями. Он давно уже заметил, что после полуночи электрический свет становится каким-то мертвым, обостряя чувство одиночества и безнадежности. Войдя в спальню, он не стал зажигать свет. Он никогда этого не делал, боясь разбудить жену. Кровать его стояла в противоположном углу, у самого окна. Академик бесшумно разделся в темноте, надел только пижамную куртку и Скользнул в прохладную постель. Спать не хотелось, усталости он не чувствовал, сознание было ясным, как будто день только начинался. Можно подумать, что в старости есть что-то от бессмертия, размышлял он. Неотвязные мысли, которые он надеялся оставить в кабинете, здесь по-прежнему обуревали его. Последнее десятилетие он работал над структурой антител. И все чаще и чаще его мучила нелепая мысль, что антитела, эта безымянная армия, которая всегда на страже, всегда готова пожертвовать собой, когда-нибудь превратится в гвардию Калигулы, готовую посягнуть на своего императора. Думая об этом, он чувствовал, что по телу у него бегут мурашки.
Но хватит об этом, нужно думать о другом, все равно о чем. Утром он попросил жену купить ему летние туфли, любые, лишь бы с дырочками, чтобы не парить ноги. Наталия ответила, что академику не пристало носить любые, но все же отправилась в магазин и, как всегда, вернулась рассерженная. То, что есть в продаже, сказала она, годится только для зеленщиков или официантов в летних пивнушках. «Так дорого?» — пошутил он, но она не поняла шутки и продолжала ворчать. Каждый год ездит человек по всяким там конгрессам и симпозиумам и не может купить себе хотя бы те мелочи, которые ему необходимы. Ни приличных запонок, ни нарядной белой рубашки для официальных приемов. Нет даже… Он благоразумно молчал. А мог бы и ответить. Мог бы, например, сказать ей, что за границей вся его валюта уходит на косметику, на разные там помады и биокремы из тех, что покупает себе Жаклин Кеннеди… Мог бы, но смолчал…
Академик усмехнулся и взглянул в сторону жены. Мрак в комнате словно бы рассеялся, теперь он видел гораздо лучше. Наталия, как всегда, спала на спине, открыв плечи. Голова ее была туго затянута кружевной косынкой, как она это делала иногда во время приступов мигрени. Спала она всегда очень тихо, даже дыханья не было слышно. Вскоре глаза у него совсем свыклись с темнотой, он увидел ее красивый профиль, крупноватый нос, строго очерченные губы — жена и во сне выглядела такой же сильной и властной, как днем. Она лежала бледная и неподвижная, словно статуя, и весь ее вид словно бы излучал притихшую вечность. Иногда по утрам его удивляла ее бледность, словно ни капли крови не было в ее невидимых бесцветных венах. Такими же бледными, почти белыми бывали у нее и губы, но через четверть часа, проведенных перед зеркалом с кисточкой и красками, лицо ее становилось совершенно нормальным.
Он вздохнул и закрыл глаза. И вдруг его охватила какая-то непонятная тревога, настолько тягостная, что всякое желание спать окончательно пропало. Обернувшись, он еще раз взглянул на ее кровать — ничего, жена спала как всегда. Но тревога не утихала, даже еще больше усилилась. Совершенно нелепая мысль, но что из этого, ее ведь так легко опровергнуть! Легко, хотя и глупо. Борясь с собой, он полежал еще несколько минут, потом встал и тихонько подкрался к ее кровати. Он ведет себя просто смешно, сейчас жена откроет свои фарфоровые глаза и сердито рявкнет что-нибудь своим низким и глубоким голосом львицы. Все женщины, наверное, звереют, когда кто-нибудь посягнет на их сон. Кто-нибудь чужой, подумал он внезапно. Не собственные их дети, не младенцы, ревущие ночи напролет, не сыновья, когда они пьяные приходят домой под утро, и не дочери, возвращающиеся с заплаканными глазами и изодранными блузками. Затаив дыхание, он коснулся ее лба кончиками худых пальцев. Ледяной холод сжал сердце. Наталия была мертва. Тогда он попытался нащупать пульс. Пустое, она была мертва, может быть, уже много часов, мертва, мертва, мертва.