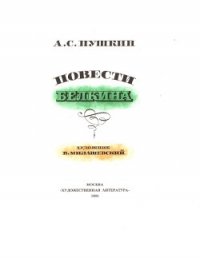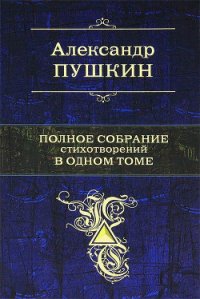Рассказы - Толстая Татьяна Никитична (читать полные книги онлайн бесплатно TXT) 📗
Старый, уже старчески неопрятный, со слезящимися глазами, с трясущейся головой, маленький и кривоногий, белый как вата, но все еще густоволосый и курчавый, припадающий на клюку, собирается Пушкин в дорогу. На Волгу. Обещал один любитель старины показать кое-какие документы, имеющие касательство к разбойнику. Дневники. Письмо. Но только из рук: очень ценные. Занятно, должно быть. "Куда собрался, дурачина!" – ворчит Наталья Николаевна. – "Сидел бы дома". Не понимает драгоценность трудов исторических. Не спорить с ней, – это бесполезно, а делать свое дело, как тогда, когда стрелялся с этим… как его?… черт. Забыл.
Зима. Метель.
Маленький приволжский городок занесен снегом, ноги скользят, поземка посвистывает, а сверху еще валит и валит. Тяжело волочить ноги. Вот… приехал… Зачем? В сущности (как теперь принято выражаться), – зачем? Жизнь прошла. Все понять тебя хочу, смысла я в тебе ищу. Нашел ли? Нет. И теперь уже вряд ли. Времени не остается. Как оно летит… Давно ли писал: "Выстрел"?… Давно ли: "Метель"?… "Гробовщик"?… Кто это помнит теперь, кто читает старика? Скоро восемьдесят. Мастодонт. Молодые кричат: "К топору!", молодые требуют действия. Жалкие! Как будто действие может что-то переменить?.. Вернуть?… Остановить?.. И старичок, бредущий в приволжских сумерках, приостанавливается, вглядывается в мрак прошлый и мрак грядущий, и вздымается стиснутая предчувствием близкого конца надсаженная грудь, и наворачиваются слезы, и что-то всколыхнулось, вспомнилось… ножка, головка, убор, тенистые аллеи… и этот, как его…
Бабах! Скверный мальчишка со всего размаху всаживает снежок-ледышку в старческий затылок. Какая боль! Сквозь туман, застилающий глаза, старик, изумленно и гневно обернувшись, едва различает прищуренные калмыцкие глазенки, хохочущий щербатый рот, соплю, прихваченную морозцем. "Обезьяна!" – радостно вопит мальчонка, приплясывая. – "Смотрите, обезьяна! Старая обезьяна!"
Вспомнил, как звали! Дантес! Мерзавец! Скотина… Сознание двоится, но рука еще крепка! И Пушкин, вскипая в последний, предсмертный раз, развернувшись в ударе, бьет, лупит клюкой – наотмашь, по маленькой рыжеватой головке негодяя, по нагловатым глазенкам, по оттопыренным ушам, – по чему попало. Вот тебе, вот тебе! За обезьяну, за лицей, за Ванечку Пущина, за Сенатскую площадь, за Анну Петровну Керн, за вертоград моей сестры, за сожженные стихи, за свет очей моих – Карамзину, за Черную речку, за все! Вурдалак! За Санкт-Петербург!!! За все, чему нельзя помочь!!!
"Володя, Володя!" – обеспокоенно кричат из-за забора. "Безобразие какое!" – опасливо возмущаются собирающиеся прохожие. "Правильно, учить надо этих хулиганов!… Как можно, – ребенка… Урядника позовите… Господа, разойдитесь!.. Толпиться не дозволяется! Но Пушкин уже ничего не слышит, и кровь густеет на снегу, и тенистые аллеи смыкаются над его черным лицом и белой головой.
Соседи какое-то время судачат о том, что сынка Ульяновых заезжий арап отлупил палкой по голове, – либералы возмущены, но указывают, что скоро придет настоящий день, и что всего темней перед восходом солнца, консервативные же господа злорадничают: давно пора, на всю Россию разбойник рос. Впрочем, мальчонка, провалявшись недельку в постели, приходит в себя и, помимо синяков, видимых повреждений на нем не заметно, а в чем-то битье вроде бы идет и на пользу. Так же картавит (Мария-то Александровна втайне надеялась, что это исправится, как бывает с заиканием, но – нет, не исправилось), так же отрывает ноги игрушечным лошадкам (правда, стал большой аккуратист и, оторвав, после непременно приклеит на прежнее место,) так же прилежен в ученьи (из латыни – пять, из алгебры – пять), и даже нравом вроде бы стал поспокойнее: если раньше нет-нет да и разобьет хрустальную вазу или стащит мясной пирог, чтобы съесть в шалаше с прачкиными детьми, а то, бывало, и соврет – а глазенки ясные-ясные! – то теперь не то. Скажем, соберется Мария Александровна в Казань к сестре, а Илья Николаевич в дальнем уезде с инспекцией – на кого детей оставить? Раньше, бывало, кухарка предлагает: я, мол, тут без вас управлюсь, – а Володенька и рад. Теперь же выступит вперед, ножкой топнет, и звонко так: "Не бывать этому никогда!" И разумно так все разберет, рассудит и представит, почему кухарка управлять не может. Одно удовольствие слушать. С дворовыми ребятами совсем перестал водиться. Носик воротит: дескать, вши с них на дворянина переползти могут. (Прежде живность любил: наловит вшей в коробочку, а то блох или клопов, и наблюдает. Закономерность, говорит, хочу выявить. Должна непременно быть закономерность.) Теперь если где грязцу увидит – сразу личико такое брезгливое делается. И руки стал чаще мыть. Как-то шли мимо нищие на богомолье, остановились, как водится, загнусавили – милостыню просят. Володенька на крыльцо вышел, ручкой эдак надменно махнул: "Всяк сверчок знай свой шесток!" – высказался. – "Проходите!.. Ходоки нашлись…" Те рты закрыли, котомки подхватили, и давай Бог ноги…
А как-то раз старшие, шутки ради, затеяли домашний журнал, и название придумали вроде как прогрессивное, с подковыркой: "Искра". Смеху!.. Передовую потешную составили, международный отдел – "из-за границы пишу т…", ну, и юмор, конечно. Намеки допустили… Володенька дознался, пришел в детскую такой важный, серьезный, и ну сразу: "А властями дозволено? А нет ли противуречия порядку в Отечестве? А не усматривается ли самоволие?" И тоже вроде в шутку, а в голосишке-то металл…
Мария Александровна не нарадуется на средненького. Поверяет дневнику тайные свои материнские радости и огорчения: Сашенька тревожит, – буян, младшие туповаты, зато Володенька, рыженький, – отрада и опора. А когда случилась беда с Сашенькой – дерзнул преступить закон и связался с социалистами, занес руку – на кого? – страшно вымолвить, но ведь и материнское сердце не камень, ведь поймите, господа, ведь мать же, мать! – кто помог, поддержал, утешил в страшную минуту, как не Володенька? "Мы пойдем другим путем, маменька!" – твердо так заявил. И точно: еще больше приналег на ученье, баловства со всякими там идеями не допускал ни на минуточку, да и других одергивал, а если замечал в товарищах наималейшие шатания и нетвердость в верности царю и Отечеству, то сам, надев фуражечку на редеющие волоски, отправлялся и докладывал куда следует.