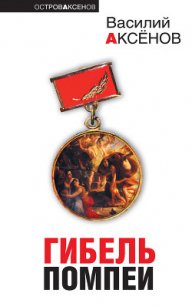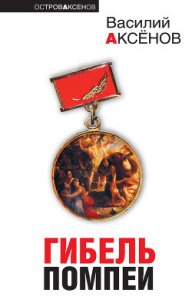Оспожинки - Аксенов Василий Павлович (книги онлайн бесплатно серия .TXT, .FB2) 📗
Теперь остатки вымирают, уступая место мерзости запустения. Здесь только, по всей России ли так? Когда нарастёт доброе? И нарастёт ли? Больно. Глушу грех отчаяния, как головную боль – таблеткой анальгина, повторяя за мамой: «На всё воля Божья, и на это», – сам же себе отцовским и перечу: Бог-то Бог, да сам, мол, будь не плох. А что изменишь?
В себе только – меру. Это других кроить да перекраивать – дело простое, себя – непросто.
Отца уже нет. Мать дряхлеет. Малая родина кончается. В Большой что творится, пока не понять. Печаль кости проела. И что вдруг, раз неизбежно?
Я ведь могу так рассуждать?.. Могу, конечно. Рассуждаю.
Ушла от нас безвозвратно русская крестьянская культура скромного, достойного, аристократического пребывания на этом свете. То же самое, что христианская. Как там у Варсонофия и Иоанна: «Пусть те, которые дают себе свободу в смехе, знают, что они впадают от сего в блуд». Или у Григория Паламы: «Неприличны христианам ни шутовство, ни смешливость, как ослабляющие напряжённость души…»
Из другой жизни. Не из нашей.
Или у аввы ли Исайи: «Не открывай уст своих для смеха отнюдь, потому что это есть безстрашие».
Отыщись смельчак или простак и скажи об этом сегодня публично, со всех экранов и из всех динамиков осмеют его дружно, найдут и доводы для этого.
У Александра Ельчанинова ли:
«Смех (не улыбка) духовно обессиливает человека».
Интересно.
И у Василия Великого: «Сидя, не клади одной ноги на другую: это знак невнимательности и души рассеянной…».
У нас в Сретенске так, по-американски, и теперь ещё не сидят. И громко, в захохотки, не смеются. И горлопаны есть, грязноязыкие, конечно, но эти редкость, исключение. «Такой уж корень, – говорят про них, – неисправимый». Или – «безстрашный». Такое семя.
И у Макария Великого как:
«Христианство есть пища и питие. И чем больше кто вкусит его, тем более возбуждается сладостью ум, делаясь неудержимым и ненасытимым, более и более требующим и вкушающим».
Скажи и это…
Говорю вот. Хоть и с оглядкой – малодушный. Окна на веранде не по-сибирски большие, во всю стену, или, как часто поминает осудительно их мама, обо всём свете, разделённые лишь по углу брусом-стояком и обращённые: одно к юго-востоку, другое к юго-западу, – как тёмно-синий бархат, ночь за ними, ельник чернеет – различаю. У мамы – утро.
«О всесвятый Николае…»
Молится.
Всех, наверное, перечислила, живых и усопших. От веку. Никого не пропустила. И ничего, быть может, даже камни – о тех печётся: молча, без дела столько полежи-ка – и изведёшься от тоски и скуки. Об облаках – о тех, быть может, тоже: носит их ветром, неприкаянных, у них хозяин властный – ветер.
Тугая стала на ухо – слова молитвы произносит громким шёпотом – под одеяло укрываюсь с головой, чтобы невольно не подслушать.
«…Честь, хвалу и прославление через Иисуса Христа Господа нашего. Аминь».
Утихла.
Кровать чёрно-белым пикейным покрывалом застелила, покрывало расправила, подушку в розовой наволочке взбила, постель ею увенчала, накидкой тюлевой украсила подушку – заурядно. И видеть действо это мне не надо – слежу по памяти за ним, заочно сострадаю.
Помывшись под дюралевым рукомойником холодной, чуть ли не ледяной уже, наверное, водой, подалась, шаркая, чего сама, конечно, и не слышит, по стылым крашеным половицам вязаными тапками с пришитыми к ним дратвой кожаными подошвами на кухню растоплять печку. Вчера ещё, как только я приехал, меня блинами посулилась накормить. И от «давлення, кто его придумал только», от иной ли, хронической или внезапной, хвори «помирать» будет, но обещание исполнит. Жалея, станешь отговаривать – обидится. Не отговаривал. Хоть и жалею. Ну и блины такие где ещё попробуешь?.. Глянешь сквозь этот блин на бьющее в окно утреннее солнце – просвечивает, и кромки у него, у этого блина, как заря на хорошую погоду, золотятся. У жён блины получаются женины, иной раз тоже неплохие, но всё не мамины, а потому и сравнивать бессмысленно их.
Взобравшись кое-как на табуретку, вьюшку выдвинула, на пол спустилась, опираясь рукой на ту же табуретку, перед плитой припала на колени, дрова в неё, стараясь не шуметь, заталкивает. Подложила, знаю, берестину. Чиркает, слышу. Пальцы, искажённые трудом тяжёлым и годами, непослушные – ломают спички. Долго зажечь не получается.
Справилась, поднялась. В русской печи, убрав заслонку, огонь стала разводить – дрова в неё ещё вчера были заряжены – чтобы просохли.
Она спать уже не хочет или, по её неизменному заверению, не может, а мне – самый сон. С вечера могу сидеть сколько угодно, сну ни в одном глазу, как говорится, а утром век не разодрать, будто кто склеит их отменным клеем. Ещё взялся вчера, как на беду, читать Андрея Кураева, диакона. «Беседа в семинарии». Интервью. Задаётся ему вопрос: «Вы молодёжный миссионер. Но, кроме молодёжи, ещё какую-то группу людей Вы выделяете как предмет особой миссионерской заботы?» Отец Андрей отвечает: «Да. Китайцев». К которым отойдут, и отец Андрей в этом почти не сомневается, сибирские земли, если не в этом столетии, так в следующем. И усни попробуй после этого. Мужественный, думаю, человек отец Андрей и, несомненно, любящий по-настоящему Россию. А любить по-настоящему Россию, это значит любить её меньше, чем Бога, но больше, чем себя, что и расставляет в человеческой душе всё по своим местам и должным образом. Но это в идеале. Нелегко, предполагаю, говорить об этом отцу Андрею – не как диакону Русской православной церкви, а как русскому человеку, – тяжело читать и рассуждать на эту тему и мне, потомку казаков-первопроходцев и крестьян-колонизаторов, благодаря которым я имею родину – ту же вроде Россию, но выплеснувшуюся в Сибирь, в которой мне одинаково дороги как, к примеру, Приисленье или Приангарье, так и, допустим, Псковщина или Смоленщина. Да что поделать. Историю творит Бог. Таков Его о нас Промысел. Не оправдали. Взять-то взяли, а удержать не в состоянии. Не оправдали мы, естественно, потомки. Предки – те сделали всё, что смогли, и сверх того: «И шли, государь, до Усть-Тазу голодом… и дорогою, государь, идучи нас голод изнял, и мы неволею души свои осквернили: собаки ели… С нужу горкие, не хотя умереть голодною смертию, ели по дороге присталых лошадей, постели, и обутки, и камось ели… И я, холоп твой, на твоей царской службе голод, стужу, и наготу, и великую нужу терпел и з голоду кобылятину ел».
Но в глубине души моей надежда всё же теплится, как бы и жить без этого, что будет нам дана ещё одна возможность – знаю: есть сердобольные, не теплохладные, люди в Сибири, которые со страхом Божиим молятся, чтобы не сбылось горькое пророчество, предположение отца Андрея, ни в этом столетии, ни в последующем. А там что будет…
По апостолу Любви. По его Книге.
Или напрасны были жертвы наших предков?
Пафоса в этом нет – я не актёр. Осмыслить хочется. Если для Бога нет ни эллина, ни иудея и, от себя добавлю, ни китайца, то и кем Он населит ту или другую территорию, тоже, выходит, всё равно. Но так для Бога. А не для меня – грехи возвыситься не позволяют. Были ж пеласги в Греции, и где они теперь? Были и римляне…
Были и русские… когда-то кто-то скажет.
Есть и совсем горячие – готовы взяться за ружьё… или за вилы… «если совсем-то допекут, если вконец-то обнаглеют».
Боже, не доведи до бунта русского.
А назревает?
Китайцев пробую назвать сибиряками, да не выходит – язык не поворачивается. Китаец, он и в Африке китаец, что актуально. Или цыгане вон. Или евреи. Что тоже не менее злободневно. Тут без оценки. Как о погоде. Такими яркими Господь создал их: где бы, среди кого и сколько времени ни жили – не мутнеют.
А русский – русский он в России только? Бывает так, что и в России он – француз.
По крайней мере, я себя не представляю вне моей страны. Перемещусь мысленно, умом побуду на чужбине, и назад тут же – чтобы не потеряться там, не сгинуть ли совсем. Лишь за себя и отвечаю, другим не указ.