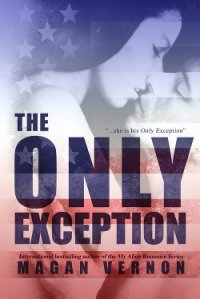Саммер - Саболо Моника (читать книги txt) 📗
Доктору Траубу нравится, когда я рассказываю ему свои сны. Он получше устраивается в кресле и поддакивает. Ему, наверно, кажется, что я у него в руках, что он — хозяин сновидений, властитель ночи, царь глубоких вод, которые поглощают меня, и подводных лесов, что колышутся у поверхности, словно спутанные волосы.
Но я знаю — доктор Трауб ошибается. Там никто и никогда не был. Даже я, хотя и попадаю иногда в этот мир — меня уносят темные воды, а может, это происходит в космосе: порой летом воздух становится таким плотным, что он выдавливает наши тела в надземное пространство и медленно уносит их, как бы покачивая на лодке, спокойно плывущей по течению, — даже я в этом мире лишь гость. Я просыпаюсь с привкусом металла или тины во рту, и силуэт Саммер исчезает, а вместе с ним и весь мир. Он распадается на миллионы частиц, и те скрывают время, как дождь из пепла затягивает пеленой бездонное небо, они прячут то, что было, и то, что будет, уходят в темноту, становятся пылью в ночи.
Это началось четыре месяца назад. В начале апреля воздух был таким прозрачным, что, казалось, я мог дотронуться до чего угодно прямо из окон моего офиса на восьмом этаже высотки банка в районе О-Вив[4] в Женеве. До фонтана буквально рукой подать — я отчетливо видел детали его трубок, воду, которая мягко пенилась и походила то ли на шампанское, то ли на гигантскую струю спермы. На выходных тут перекрасили стены, и от толстого ковра бежевого цвета шел узнаваемый приторный запах чистящего средства в ярко-синей упаковке, напоминающей о весеннем небе или о гигиеничной смерти. Окна сияли такой чистой, что казалось, их не существует. Пусть мне как-нибудь объяснят невротические мотивы борьбы с грязью, которые движут местными жителями! Можно подумать, что для них сама мысль о распаде, разложении, даже если речь идет всего лишь об отпечатках пальцев, невыносима, угрожающа, как дремучий лес, подходящий к городским воротам, где бродят дикие твари, порожденные самой тьмой.
Комнату наполнял химический аромат, нездоровый и стойкий запах краски. Я смотрел на небо, прозрачное, как сердце какого-нибудь бога, на перегородки моего кабинета, которые казались сделанными из хрупкого до отвращения материала. Из папье-маше? Из крошек и птичьих косточек? А потом пол заходил ходуном, комната начала крутиться над зеркальной поверхностью озера, и я увидел на мгновение, как в нем отразился весь мир.
Мама идет мимо большой лестницы нашего дома на берегу озера в Бельвю.[5] Запах свежей краски заполняет мне легкие. Этот запах. Он везде, в каждом помещении: в шести спальнях, двух смежных гостиных, на кухне, на двойной монументальной лестнице. Все будет хорошо, говорю я себе, и смотрю, как мама улыбается. Папа тоже улыбается, рукава его рубашки закатаны, он машет друзьям, которые подходят к берегу на моторной лодке: красивые молодые женщины в купальниках, мужчины, похожие на папу, сильные, веселые. Один стоит у штурвала, воротник его рубашки расстегнут, он курит сигару. Они причаливают к мостику, что ведет прямо в сад, прыгают на берег, нависающий над небольшой каменной стеной, поросшей черным мхом, который рассыпается в руках. Проходят под металлическими сводами маленького музыкального павильона, где Саммер обожает играть, шепчась сама с собой; в руках у них бутылки вина и банные полотенца, они идут босиком, их волосы влажны от купания.
Папа торжествующе улыбается, гордится своей мужественностью, мама светится от счастья, ее платье почти прозрачное. Рядом Саммер, в шортах и майке, с волосами, забранными в конский хвост на самой макушке, ее волосы струятся по спине, она — нежная копия мамы. Все трое счастливы. Как же я их люблю, Господи, сердце мое сжимается, ком в горле, это моя семья… Они прекрасны, куда красивее гостей на лужайке, хотя приглашенные впечатляют: у девушек длинные гладкие ноги, одежда почти не скрывает их тела, у мужчин расстегнуты рубашки, искрятся бокалы в руках. Длинный стол, установленный в саду под тополем, чьи ветки касаются озерной глади так, что кажется, воду мутит широкая сеть, застелен льняной скатертью. На накрытом столе и в волосах — принесенные ветром крошечные пушинки — семена-парашютики луговых цветов. На маленьком пляже кто-то бросает хлеб уткам, те подплывают и мрачно крякают. Девушки в бикини тоненько вскрикивают в ответ, звучит их притворно-испуганный смех; они стоят босиком на гальке и словно готовятся прикоснуться к неизведанному. Появляется лебедь в маслянистом оперенье, он скользит по воде, уставившись черными глазами на Саммер. Моя сестра делает шаг навстречу ему, за ней следуют молодые женщины со светящейся кожей, но королева этого водного народца — она, и лебедь — ее творение, кажется, он ее слушается. Он поводит гибкой шеей в такт движению узких ладоней Саммер, и она смеется. Ее лицо сияет так, словно на нее направлен свет прожекторов.
Мне семь лет, и я тоже счастлив, хотя ступни мои проваливаются в лужайку, как в мокрый ковер, и эта лужайка — мой заклятый враг. Не только потому, что я уверен — это лишь плывущее по озеру травяное покрывало, которое, не выдержав нашего веса, однажды уйдет из-под ног, и мы провалимся в глубину, а еще и потому, что мама, продолжая весело улыбаться гостям, хмурит брови, заметив, как я испачкался, и закуривает сигарету. На маминых губах теперь другая улыбка — она похожа на влажный воздух, который постепенно проникает под одежду, незаметный, как сквозняк, и пробирается под кожу.
Вот так это началось в начале апреля. И когда доктор Трауб спросил меня, одновременно делая пометки — у меня всегда складывается впечатление, что он, на самом деле, ничего не записывает или записывает на каком-то несуществующем языке, — не случилось ли тогда что-то, скажем, некое событие, ставшее «отправной точкой», тем, что могло привести к «паническим атакам» — так он называет трещину, что, открываясь внутри меня, заставляет судорожно глотать воздух под грохот обезумевшего сердца, смотреть на темные пятна, что зарождаются во внешних уголках глаз и несутся к небу (летучие мыши? птеродактили?), и испытывать усталость вместе с желанием сбежать, не имея на это сил, — я, ужасаясь идиотизму собственного ответа, просто сказал: «Мой кабинет перекрасили».
Доктор Трауб смерил меня ничего не выражающим взглядом.
Но я был уверен: он знал, кто я такой. Знал мою фамилию: Васнер. Ее слышали все. Всем известно про наши взлет и падение. Мы стали притчей во языцех, мы несем семейную историю как развернутое знамя, похожее на кусок луны дождливой ночью. Но мы стараемся об этом не думать. И не говорить. Мы делаем вид, что не замечаем чужих пытливых глаз, в которых светятся интерес и жалость. На нас смотрят так, словно пытаются что-то прочитать и понять по нашим лицам и походке, часто нарочито расхлябанной. Мы живем как в тумане, возможно, мы и сами сотканы из тумана.
— Воспоминания, связанные с запахами, могут нахлынуть на человека с удивительной силой. Между памятью и запахами существует необъяснимая связь.
Мягкий голос доктора Трауба навевал желание все бросить и нырнуть в горячую ванну.
Но я промолчал.
Образ Саммер колыхался между нами в бледном свете комнаты — волосы, похожи на длинные шелковистые нити, распущены. Число этих нежнейших нитей с каждым днем росло, и, оплетая нас подобно невидимой паутине, они незаметно поймали нас в свою сеть.
Мы вели невидимую войну на протяжении нескольких недель. Я уставал все больше и больше. Мне пришлось признаться доктору Траубу в том, что, несмотря на прием пароксетина и алпразолама, я больше не могу ходить на работу и не выполняю утренних установок — не дышу, не расслабляюсь, не смеюсь над собой. Чувство, что я погружаюсь в трясину, настигает меня, стоит мне ступить на ковер, который лежит в коридоре, ведущем к моему кабинету, и тогда сердце начинает колотиться, как птичка в клетке, я задыхаюсь. А эта краска! Ее запах проникает всюду, он выпускает наружу влажный туман и погружает все в белую мутную воду, где плавают прозрачные микроорганизмы, нежные, словно кружево.