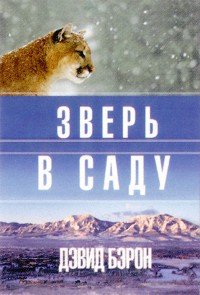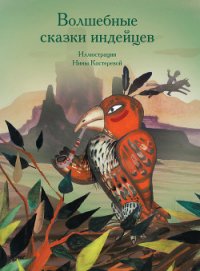Кентавр в саду - Скляр Моасир (бесплатные серии книг .txt) 📗
Умолкаю. Эти рассказы навевают слишком много воспоминаний, я скучаю по родителям, по Деборе и Мине, даже по Бернарду. Я по-прежнему пишу им длинные письма, которые управляющий относит в город на почту. Я пишу, что у меня все в порядке, что беспокоиться не надо, но должен ли я рассказать им о Тите? Решаю, что не стоит, что еще не время.
Дона Котинья привязывается к нам все больше. Она говорит, что мы для нее – всё (милые мои зверушки – так она нас называет), что мы ей дороже сына, от которого и письма не дождешься. Ее немного смущает, что мы – любовники, нам она ничего не говорит, но мы знаем, что в душе она считает нашу связь ненормальной и даже греховной. Если мы обнимаемся при ней, ей явно не по себе, и она отводит глаза. В остальном она очень внимательна к нам, дарит подарки: свитера мне, ожерелья Тите. Мы от этого просто счастливы.
Мы с Титой счастливы. С 1954 по 1959 – это годы счастья.
Мы каждый день, каждый миг были вместе. Мы изучили каждый жест, каждый взгляд друг друга и знали их значение. У нас появились общие привычки и наш тайный язык: я стал Ге, а она – Ти. Ге и Ти, Ти и Ге – мы были неразлучны. Я знал, что она любит, когда я целую ее в мочку уха, она знала, что мне нравится, как она прижимается щекой к моей груди. Но что мы лучше всего знали – так это когда мы хотим друг друга. Желание могло возникнуть в любую минуту – вечером, ночью, в полдень, – неважно, работали мы, ели или спали. Мы обнимались, дрожа от возбуждения. И нам всегда было хорошо.
Годы счастья, с 1954 по 1959? Ну, возможно, и нет. Возможно, с 1954 по 1958, или даже по 1957, конец 1957. Да, счастливые дни пошли на убыль. А виной тому было некое беспокойство, коварно угнездившееся в душе у Титы. Пришло оно, возможно, из иллюстрированных журналов, которые она листала, из радиосериалов, которые слушала. Почему бы нам не пожениться и не переехать в столицу? – спрашивала она. Почему я не могу ходить в супермаркет, как все женщины, почему не могу покупать зелень, сыр, яйца, салфетки – все, что угодно? Почему я не могу познакомиться со свекром и свекровью и обедать с ними каждое воскресенье? Почему ты не разрешаешь мне иметь детей?
(Я пользовался с ней, к счастью, успешно, методом Огино [7]. Какие еще предосторожности я мог принять? Камень в матку, как делают индианки? Грубо. О пилюлях я не знал, а если бы даже и знал – пилюли для кентавров? Презерватив, возможно, помог бы, но где мне было взять презерватив таких размеров?)
Вопросы эти выдавали ее крайнюю наивность, и вместе с тем эксцентричность (в мать уродилась?). Она, как фокусник, закрывала плащом лошадиную часть своего тела, и та в ее воображении отделялась от Титы-женщины и уносилась галопом далеко-далеко, чтобы уже никогда не вернуться.
Тита забывала, что она – кентавр. Почему я не могу жить, как другие? – повторяла она. Потому что не можешь, приходилось мне каждый раз отвечать ей, потому что у тебя есть хвост, круп, копыта и даже клочок гривы. Но мне не хотелось быть грубым с ней, я не хотел огорчать и разочаровывать ее. Ее вопросы иногда трогали меня до слез. Я бы тоже хотел жить нормальной жизнью. Мне тоже хотелось бы поселиться в Порту-Алегри в квартире с тремя спальнями, просторной гостиной, гаражом. Мне бы тоже хотелось иметь семью. И собственное дело (пусть мне и не удалось получить образования). И друзей, с которыми можно погонять в футбол в воскресенье. Но как играть в футбол четвероногому? Невозможно. Разве что в поло. А о футболе и думать нечего.
А если нам попробовать какое-нибудь лечение? Наука за последние годы шагнула далеко вперед. Тита показывала мне статью из журнала, где говорилось об одном марокканском хирурге, который творил чудеса, превращая женщин в мужчин и наоборот – а почему бы ему, спрашивала она, не сделать из кентавров нормальных людей?
Мне эта затея казалась неосуществимой. Я не верил, что мы сможем выжить после такой операции. Но, даже если предположить, что врач согласится прооперировать нас и что есть шансы на успех, – как добраться до Марокко? Как оплатить такую операцию, наверняка безумно дорогую?
Я потерял сон от мысли, что, возможно, решение нашей проблемы существует, но для нас оно недоступно.
Как-то вечером дона Котинья позвала меня:
– Гедали, мне надо поговорить с тобой наедине.
Я взглянул на Титу. Ту, казалось, полностью увлекло провязывание сложной петли в очередном свитере. Я пошел следом за доной Котиньей в кабинет. Она затворила дверь и обернулась ко мне.
– Тита сказала, что в Марокко есть врач, который может вас вылечить. Что вопрос только в деньгах.
– Это не совсем так, дона Котинья, – начал было я, но она перебила:
– Учти: все расходы я беру на себя. – Я попытался что-то возразить, но она остановила меня жестом: – Я уже стара, мне больше не нужны ни деньги, ни земли, ни все остальное. Вы молоды, у вас вся жизнь впереди. Езжайте, езжайте, дети мои, в Марокко, пусть вас прооперируют, и возвращайтесь домой нормальными.
Ее самоотверженность покорила меня. Едва сумев выговорить: вы нам настоящая мать, взволнованный, я вышел из кабинета и в ту ночь много плакал, не только от тоски по родителям, по сестрам, но и от восторга перед добротой доны Котиньи.
Однако и тогда я еще не смог решиться.
И причиной был не столько страх перед операцией, сколько чувство, что мы покушаемся на творение Природы, возможно, результат некого высшего замысла – кто знает, не божественного ли. Тита поняла, какая во мне происходит борьба. Она перестала заговаривать на эту тему: ждала, что я возьму инициативу на себя. Я бродил по полям. Я все думал и думал, но так и не мог убедить себя, что операция – лучший выход для нас.
Возможно, я слишком перенервничал в те дни, потому и заболел.
Все началось со слабой мигрени, которая все усиливалась, пока не превратилась в могучую, порабощающую боль, от которой у меня чуть не лопался череп. Я почти ничего не видел и не слышал – боль была так сильна, что доходило до рвоты. Тита и дона Котинья уложили меня в постель и старались помочь, как могли: клали мне на лоб холодные компрессы, прижимали к вискам кружочки сырого картофеля.
Четыре дня я провел в полубеспамятстве, одержимый странными видениями: то мне казалось, что мои лошадиные ноги превращаются в человеческие, то, что их вдруг становится невероятно много, а тело вытягивается, так что я уже – кентавр-сороконожка. Шагая по длинному залу, я старался – ать-два, ать-два – переставлять десятки ног ритмично. Но усилия мои оказались напрасными: у меня отрастали все новые ноги, одна нелепее другой. Под конец я стал лягать самого себя и был жестоко изранен. Все тело у меня болело, кровь хлестала из десятка ран, и я с ужасом наблюдал, как две из моих неисчислимых ног бьются друг с другом не на жизнь, а на смерть. Потом все эти видения спутались и исчезли. Теперь мне казалось, что я, то ли на корабле, то ли на чем-то вроде лодки, покачиваюсь на волнах – а волнение на море совсем не сильное – и любуюсь мирным пейзажем: берегом какой-то страны, пальмами, белыми домиками незнакомого города.
Едва выздоровев, еще не набравшись сил, я решился:
– Едем в Марокко.
Тита и дона Котинья, рыдая, бросились обнимать меня. Я знала, знала, твердила дона Котинья, что Господь внушит тебе, как поступить, Гедали.
Две недели спустя мы плыли к северному побережью Африки.
7
Огино – японский врач. Первым предложил метод контрацепции, основанный на подсчете дней цикла.