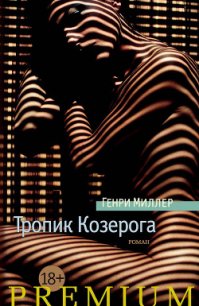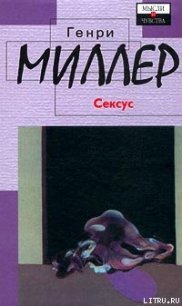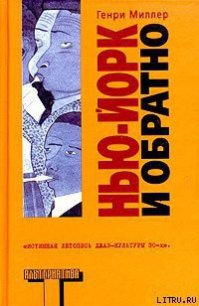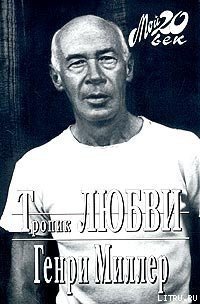Тропик Рака - Миллер Генри Валентайн (книги полностью бесплатно txt) 📗
Конечно, я говорю сейчас о мире больших городов, о мире мужчин и женщин, из которых машина времени выжала все соки до последней капли; я говорю о жертвах современного прогресса, о той груде костей и галстучных запонок, которые художнику так трудно облепить мясом.
Только позже, днем, попав в галерею на рю де Сэз и оказавшись среди мужчин и женщин Матисса, я снова обрел нормальный мир человеческих ценностей. На пороге огромного зала я замираю на миг — так ошеломляет торжествующий цвет подлинной жизни. Это торжество непременно выливается в песню или поэму и разрывает в клочья привычную серость нашего мира. Мир Матисса настолько реален, настолько полон, что у меня перехватывает дыхание.
В каждой поэме, созданной Матиссом, — рассказ о теле, которое отказалось подчиниться неизбежности смерти. Во всем разбеге тел Матисса, от волос до ногтей, отображение чуда существования, точно какой-то потаенный глаз в поисках наивысшей реальности заменил все поры тела голодными зоркими ртами. Матисс — веселый мудрец, танцующий пророк, одним взмахом кисти сокрушающий позорный столб, к которому человеческое тело привязано своей изначальной греховностью. Матисс — художник, который знает — если вообще существует кто-либо, наделенный подобным магическим даром, — как разложить человеческую фигуру на составляющие; и у него достало смелости пожертвовать гармонией линий во имя биения пульса и тока крови; он не боится выплеснуть свет своей души на клавиатуру красок.
Мир все больше и больше напоминает сон энтомолога. Земля соскальзывает с орбиты, меняя ось; с севера сыплются снега иссиня-стальными заносами. Приходит новый ледниковый период, поперечные черепные швы зарастают, и вдоль всего плодородного пояса умирает зародыш жизни, превращаясь в мертвую кость.
В самом центре разваливающегося колеса — Матисс. И он будет вращаться даже после того, как все, из чего это колесо было сделано, разлетится в прах.
Обои, которыми ученые обклеили мир реальности, свисают лохмотьями. Огромный бордель, в который они превратили мир, не нуждается в декорации; все, что здесь требуется, — это хорошо действующий водопровод. Красоте, той кошачьей красоте, которая держала нас за яйца в Америке, пришел конец. Для того чтобы понять новую реальность, надо прежде всего разобрать канализационные трубы, вскрыть гангренозные каналы мочеполовой системы, по которой проходят испражнения искусства. Перманганат и формальдегид — ароматы сегодняшнего дня. Трубы забиты задушенными эмбрионами.
Мир Матисса с его старомодными спальнями все еще прекрасен. Я хожу среди этих созданий, чьи поры дышат и чей быт так же солиден и устойчив, как свет, и это бодрит меня. Я выхожу на бульвар Мадлен, где проститутки проходят мимо меня, шурша юбками, и острейшее ощущение жизни захватывает меня, потому что уже один их вид заставляет меня волноваться. И дело вовсе не в том, что они экзотичны или хороши собой. Нет, на бульваре Мадлен трудно найти красивую женщину. Но у Матисса в магическом прикосновении его кисти сосредоточен мир, в котором одно лишь присутствие женщины моментально кристаллизует все самые потаенные желания. И встреча с женщиной, предлагающей себя возле уличной уборной, обклеенной рекламой папиросной бумаги, рома, выступлений акробатов и предстоящих скачек, встреча с ней там, где зелень деревьев разбивает тяжелую массу стен и крыш, впечатляет меня, как никогда, потому что это впечатление родилось там, где кончаются границы известного нам мира. В темных углах кафе, сплетя руки и истекая желанием, сидят мужчины и женщины; недалеко от них стоит гарсон в переднике с карманами, полными медяков; он терпеливо ждет перерыва, когда он наконец сможет наброситься на свою жену и терзать ее. Даже сейчас, когда мир разваливается, Париж Матисса продолжает жить в конвульсиях бесконечных оргазмов, его воздух наполнен застоявшейся спермой, и его деревья спутаны, как свалявшиеся волосы. Колесо на вихляющейся оси неумолимо катится вниз; нет ни тормозов, ни подшипников, ни резиновых шин. Оно разваливается у вас на глазах, но его вращение продолжается…
8
Я иногда спрашиваю себя, что так привлекает ко мне людей с вывихнутыми мозгами: неврастеников, невротиков, психопатов и в особенности евреев? Вероятно, в здоровом пееврее есть что-то такое, что возбуждает еврея, как вид кислого ржаного хлеба. Взять хотя бы Молдорфа, который, по словам Бориса и Кронстадта, сделал из себя Бога. Этот маленький гаденыш ненавидел меня жгучей ненавистью, но не мог без меня обойтись. Он периодически являлся за получением своей дозы оскорблений — они на него действовали как тонизирующее. Правда, вначале я был терпелив с ним — как-никак он платил мне за то, что я его слушал. И если я не проявлял особой симпатии, то по крайней мере умел слушать молча, когда пахло обедом и небольшой суммой на карманные расходы. Потом я понял, что он мазохист, и стал время от времени открыто над ним смеяться; это действовало на него, точно удар хлыста, вызывая новый бурный прилив горя и отчаяния. Вероятно, все между нами обошлось бы мирно, если бы он не взял на себя роль защитника Тани. Но Таня еврейка, и потому это было для него этическим вопросом. Он хотел, чтобы я оставался с мадемуазель Клод, к которой, должен признаться, я по-настоящему привязался. Он иногда давал мне деньги, чтоб я мог с ней спать. Но потом он понял, что я неисправимый развратник.
Я упомянул сейчас Таню, потому что она недавно вернулась из России — несколько дней назад. Она ездила одна, Сильвестр оставался в Париже, чтобы получить работу. Он окончательно бросил литературу и посвятил свою жизнь новой Утопии. Таня хотела, чтобы я поехал вместе с ней в Россиию, лучше всего в Крым, и начал там новую жизнь. Мы устроили славную попойку у Карла, где и обсуждали эти планы. Меня интересовало, чем бы я мог там зарабатывать себе на жизнь — мог бы я, например, стать там корректором? Таня сказала, что об этом я не должен беспокоиться — работа непременно найдется, если Я буду серьезным и искренним. Я попытался сделать серьезное лицо, но получилось что-то трагическое. В России не нужны печальные лица, там хотят, чтобы все были бодры, полны энтузиазма, оптимизма и жизнерадостности. Для меня это звучало так, будто речь шла об Америке. Но от природы мне не дано такого энтузиазме. Конечно, я не сказал об этом Тане, но тайно я мечтал, чтобы меня оставили в покое в моем закутке, пока не начнется война. Вся эта затея с Россией слегка расстроила меня. Таня пришла в такой раж, что мы прикончили полдюжины бутылок дешевенького винца. Карл прыгал вокруг нас, как блоха. Он достаточно еврей, чтобы потерять голову при мысли о России. Карл требовал, чтобы мы с Таней немедленно поженились. «Сейчас же! — кричал он.
— Вам нечего терять!» Он даже придумал предлог, чтобы куда-то уйти на время и дать нам возможность воспользоваться его кроватью. Таня тоже хотела этого, но Россия настолько заслонила для нее все остальное, что она растратила это время на разговор, отчего я стал нервным и раздражительным. Но, так или иначе, пора было поесть и идти на работу. Мы забрались в такси на бульваре Эдгара Кипе. Это был великолепный час для прогулки по Парижу в открытой машине, а вино, которое булькало в наших животах, делало ее еще приятнее. Для меня все это тоже было как сон: моя рука была под Таниной блузкой, и я сжимал ее грудь. Я видел под мостами воду и баржи, а вдали Нотр-Дам, точь-в-точь как на открытках, и думал о том, что чуть не попался на удочку. Но даже пьяный я твердо знал, что никогда не променяю всю эту круговерть ни на Россию, ни на рай небесный или земной. Стоял чудесный день, и я думал о том, что скоро мы наедимся до отвала и закажем что-нибудь этакое, какое-нибудь хорошее крепкое вино, которое утопит в нас всю эту русскую чушь. С такими женщинами, как Таня, в полном соку, надо быть осторожным. Иначе они могут стащить с вас штаны прямо в такси.
Теперь, когда Таня снова в Париже, когда у меня есть работа, когда можно предаваться пьяным разговорам о России и еженощным прогулкам по летнему Парижу, жизнь приняла приятный оборот. Я встречался с Таней почти каждый день около пяти часов, чтобы выпить стаканчик «порто», как она называла портвейн. Я позволял ей таскать меня в неизвестные мне места — в шикарные бары вокруг Елисейских полей, где звуки джаза и стонущие детские голоса певцов исходили, казалось, прямо из стен, отделанных панелями красного дерева. Даже когда вы шли в туалет, эта сочная вязкая музыка следовала за вами, проникая через вентиляционные отверстия и превращая все в какой-то сон, сотворенный из разноцветных мыльных пузырей. Пока Таня болтала о России, о будущем, о любви и т. д., я часто думал о самых неподходящих вещах — о том, как бы я чувствовал себя, если бы мне пришлось стать чистильщиком обуви или служителем в уборной. Наверное, потому, что всюду, куда меня таскала Таня, было так уютно и я не мог представить себе, что превращусь в трезвого и согбенного старца… нет, мне всегда казалось, что и в будущем, каким бы оно ни было, сохранится та атмосфера, в которую я погружен сейчас, — та же музыка, позвякивание стаканов и аромат духов, исходящий от каждой соблазнительной попки и заглушающий обычный смрад жизни, даже тот, что внизу, в уборной.