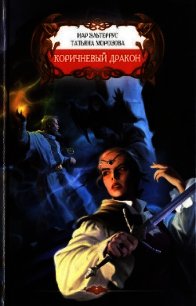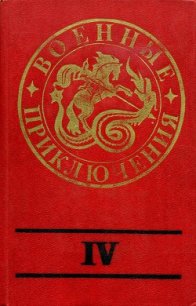Красно-коричневый - Проханов Александр Андреевич (книга жизни TXT) 📗
– Мы должны умереть достойно! – обращалась она к небольшой, окружавшей ее группе. – Чтобы они не увидели наших слез!.. С детьми на руках, все вместе!.. Пусть почувствуют наше презрение!.. Там нет людей, нет сострадания, одни фашисты, звери!..
Хлопьянов слушал ее, вспоминал, как летом она появилась у Клокотова и стоял на столе букет тюльпанов, и Клокотова, милого друга, уже нет в живых, и отца Филадельфа нет в живых, и Вельможи, уповавшего на «новый курс», нет в живых, и старика-коммуниста, сгоревшего в красном взрыве, нет в живых, и многих, кого настигли пули вчера в «Останкино» и сегодня, в палаточном городке, – их уже нет в живых. А Сажи, слава Богу, жива, и он, Хлопьянов, жив. Но конец приближается, колотит в стены и в дверь огромная стенобитная машина, вот-вот сорвутся с петель, упадут кованые ворота и ворвется с диким гиком и визгом свирепая конница, пронесет на пике окровавленную, с выпученными глазами, его, Хлопьянова, голову. Но не страшно, не жутко. Расцветает в душе упругий бутон, пульсирует второе, зародившееся сердце. Подобно женщине, несущей в лоне созревающий плод, он чувствует счастливое горячее биение.
В зал вошел Хасбулатов. Охранники несли перед ним зажженные свечи. Он шагал за мерцающими огоньками, щуплый, маленький, в своем белесом плаще. Поднялся в президиум, остановился, окруженный туманными одуванчиками света, и все в зале умолкли, ждали, что он скажет:
– Дорогие мои сотоварищи, любезные братья и сестры!.. Я пришел к вам в этот горький, быть может, последний для всех нас час, чтобы просить у вас прощения!.. Быть может, я кого-то из вас обидел, к кому-то был несправедлив, – не судите меня!.. Я – один из вас, равный вам, делавший, как и вы, вмененное нам дело!.. Теперь это дело прервано, и, возможно, мы видимся с вами в последний раз!.. И я говорю вам, простите!..
Он низко, в пояс, поклонился. В зале, сначала тихо, потом все громче начались рыдания. Какая-то женщина, держась за горло, захлебывалась от слез. Какой-то бородатый лысый старик крестился и крестил издалека Хасбулатова. А у Хлопьянова вместо слез и рыданий радостно расширялось сердце, испускало вовне потоки света. Их этого потока, из огненных лепестков, кто-то вырвался, бурный и светлый, с длинными заостренными крыльями, золотой головой. Пробежал босиком поверх столов и кресел, оглядел всех счастливыми любящими глазами и исчез в стене, оставив слабый, гаснущий отпечаток.
Хлопьянов стоял, опустив ствол автомата, радуясь вестнику, и весть, которую тот принес, была о вечной любви и бессмертии, к которому все они были причислены.
Он пробирался по коридорам к центральному подъезду, где поджидало его пустое золоченое кресло и где пол был усеян острым льдистым стеклом и в разбитые окна дул солнечный ветер, приносивший с реки звонкие очереди. Он старался понять, что это было, кто промчался над ним в темном печальном зале, коснулся на бегу невесомой рукой, оставил на стене гаснущий отпечаток крыла. Видение пронеслось в его сумеречной утомленной душе, было подобно тому, что возникло на море, среди прыгающих серебряных рыбин, – сияющее диво озарило его и исчезло, оставив на море след солнца и ветра.
Он не мог объяснить, кто это был, не мог разглядеть лица. Только чувствовал исходящие от него добро и могущество, несказанные радость и свет.
С этим светом и радостью он шел на позицию. Не было в нем уныния, неверия. Бой, который ему предстоял, не был бессмысленным отчаянным боем обезумевших обреченных людей, но сражением непобедимых свободных воинов, черпающих свою непобедимость от высших, не подверженных смерти сил. Так думал Хлопьянов, неся на плечах автомат, чувствуя плечом натяжение ремня и горячее прикосновение промчавшегося дива.
Радость и силу, которые он испытывал, ему хотелось передать товарищам. Не словом, а прикосновением, чтобы и они обрели неколебимость и свет.
Навстречу ему шел депутат. Хлопьянов не помнил его имени, прежде почти не замечал его. Депутат был небрит, лицо опухло от бессонницы, одежда измята и скомкана. Он шагал, стараясь побыстрее миновать оконные проемы, сквозь которые могла влететь пуля снайпера. Бегал по сторонам затравленным взором. Хлопьянов шагнул к нему, поздоровался, пожал руку, через рукопожатие переливая в его холодные скрюченные пальцы свой свет и радость. Депутат удивленно смотрел ему вслед, а Хлопьянов удалялся, поделившись с ним своим бессмертием.
В другом коридоре он повстречался с буфетчицей, которая несла на подносе гору бутербродов, видимо, для тех, кто сидел в полутемном зале. Немолодая усталая женщина в заляпанном белом халате была из тех работниц Дома Советов, кто остался в нем и после осады, продолжал трудиться под пулями. Хлопьянов еще издали улыбнулся ей. Проходя, кивнул, поддержал колыхнувшийся поднос, незаметно коснулся женской руки. Получил ответную усталую улыбку, кивок седеющей головы. Знал, теперь и женщина наделена бессмертием, и в нее, от руки к руке, пролился чудный свет.
На лестничной клетке он нагнал раненого. Парень в бушлате, с забинтованной ногой прыгал вверх по ступенькам, опираясь на палку. Хватался за поручни, отдыхал. Каждый прыжок причинял ему боль. Останавливаясь, он отирал ладонью бледный липкий лоб, жалобно оглядывался. Хлопьянов поддержал его под локоть, помог взойти на следующий этаж. Парень благодарил его, виновато охал, поковылял по коридору вдоль стенки. И Хлопьянов знал, что поделился с парнем своей силой и светом, и страдания его будут остановлены, и вера его не покинет.
Он столкнулся в коридоре с юношей, с которым совсем недавно расстался у брезентовых носилок, в которых лежала его подруга, и они целовались, что-то жарко друг другу нашептывали. Теперь юноша пробегал мимо, его волосы колыхались на плечах. Он держал автомат, и Хлопьянов заметил, что шейка приклада была обмотана красной шелковой ленточкой.
– Я опять был у нее, – он радостно, как к близкому человеку, обратился к Хлопьянову. – Кровь не течет. Она уснула. Врач меня успокоил. А это, – он поймал взгляд Хлопьянова, – ленточка из ее волос.
Хлопьянов, радуясь встрече, снова подумал, что юноша похож на средневекового рыцаря, повязавшего на древко оружия бант своей прекрасной дамы.
– Они попытались сунуться со стороны стадиона! Сначала из бэтээров долбили, а потом пехота пошла! Мы их отсекли! – юноша шагал рядом с Хлопьяновым, качал автоматом, и ленточка струилась. – Боеприпасы кончаются! На одиночные выставил! – и он сокрушенно тряхнул кудрями.
Хлопьянов радовался возможности прошагать с ним рядом малый отрезок коридора – еще одну крохотную часть своего жизненного маршрута. Малиновая истоптанная дорожка под ногами. Окно, за которым клубится медленный сизый дым. Сквозняк, лизнувший щеку сквозь пулевую пробоину в стекле. Юноша с развеянными волосами шагает рядом с ним, несет на автомате бант своей «дамы сердца».
– Наверху пожар! Все горит! Пекло! Ветер утягивает пламя ввысь, и мы здесь его не чувствуем! Хлопьянов остро пережил, зафиксировал в мыслях этот исчезающе-малый кристаллик жизни
– он идет по коридору, по истоптанному ковру, этажом выше бушует пожар, красный ком пламени взмывает в московское небо, падают, как головни, обгорелые балки, выше пожара, сквозь бледную синь, реют светила и звезды, и он проходит под ними, держа автомат.
– Ну, я пошел, – сказал юноша, когда они достигли перекрестка, где коридор раздваивался, вел в два разных крыла дома, к двум разным рубежам обороны. – Еще увидимся!
Хлопьянов, расставаясь с ним, коснулся его руки. Наделил своим светом. Поделился невидимым миру богатством.
Хлопьянов уходил по коридору в неосвещенную темень, торопясь туда, где ждали его товарищи, чтобы тронуть невзначай обожженную руку Красного генерала, измызганную куртку Морпе-ха, черный бушлат приднестровца. Перелить в них свою силу, передать полученный свыше дар.
Он услышал, как с оглушительным хрустом и воем ударило вблизи. Стены качнулись, пол пошел вниз, как резиновый, и вернулся обратно. Секунду он находился среди треска, железного скрежета, который удалялся, откатывался волной по лестницам и коридорам.