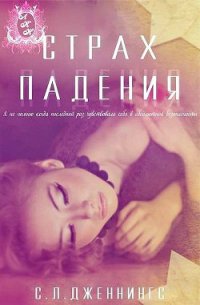Псевдо - Ажар Эмиль (электронные книги без регистрации .TXT) 📗
Когда газеты написали, что Эмиль Ажар не существует, что все сфабриковано, они были правы. Я чертовски сфабрикован и даже доведен до блеска.
Мы все сами себе незаконнорожденные.
Госпожа Ивонн Баби спросила меня:
— Как к вам пришла мысль писать ажаром?
Не пришла она мне в голову. Мне ее подарили. За так.
У меня в лицее в Ницце был приятель, у которого мать была в приюте для умалишенных. А отец алкоголик.
Приятели звали его Жежен.
Я-то переехал в Тулузу и закончил лицей там.
Жежен. Альманах Вермо знаете?
Вот так я и украл у приятеля идею писать ажаром.
Однажды вечером мама взяла картонку, сунула туда не глядя кучу драгоценностей и часов, потому что «Рубин» был еще и часовым магазином, и отправилась пешком из Ниццы в Париж — повидать меня.
Когда ее нашли, она блуждала по полям, не разбирая дороги, и не могла говорить.
Так длилось полтора года, то туда, то обратно.
Она говорила:
— Ты будешь писателем, когда…
А может быть, она говорила: как дядя. Уже не помню.
Моя мать — семидесятипятилетняя дама, датчанка, которая мирно проживает в Бьерко, разводит собак и цветы. У нее седые волосы, она часто смеется. Я вижу ее по нескольку раз в день, особенно теперь, когда живу в Копенгагене. Мой отец тоже датчанин, он дальний родственник доктора Христиансена. Думаю, мой настоящий отец — доктор Христиансен, и сам я тоже датчанин. Датчане — не антисемиты.
Я использовал предсмертные мучения лично мне не известной дамы, чтобы описать агонию мадам Розы в романе «Вся жизнь впереди».
Не хочу об этом говорить и именно поэтому говорю.
Вот передо мной Поль Павлович. Ему двадцать лет. Он пишет стихи под напором внутреннего крика. Но сквозь стихи по-прежнему пробивается крик, он растет и растет. Крик не может выйти наружу и разбухает. Он начинает гнить. Крик не может высвободиться, и преступление остается внутри. Жизнь продолжается, одно преступление пыталось переплюнуть другое. Тогда крик становится андским королевским кондором, взлетает, и тут у меня случились первые неприятности, потому что я сел на крышу и не хотел с нее слезать. Я стал овощем, артишоком, но я недолго оставался артишоком, потому что с него снимают листья, его смакуют, он питателен, это все равно что быть поэтом, их тоже все время смакуют.
Теперь в депрессиях есть доза лития. Потому что есть счастливчики, которые впадают в депрессию и знают об этом. У меня же все обыденно и привычно.
Я стал удавом и потом еще одной книгой, чтобы меньше ощущать принадлежность. Но я взял себя в руки, вывел себя на правильный путь и получил авторские права. Во мне боролись двое: тот, кем я не был, и тот, кем я быть не хотел. Но моя вина продолжали видеться мне совершенно отчетливо, и все вокруг было обыденно и привычно. Я принялся ежедневно изобретать персонажей, которыми я не являлся, чтобы достичь еще меньше себя.
Копенгагенское интервью продлилось два дня. С помощью предметов первой необходимости я держался молодцом. Страх, что меня найдут, что узнают, что котенок действительно умер, окончательно и бесповоротно, и что я подлежу, кричал во мне как Бэконовские папы в своем куске льда. Мысль о том, что впервые в истории человечества меня приняли в счет, задавали вопросы, повесили мое пальто в ничьей прихожей и оно своими пустыми рукавами свидетельствовало об опасном и невидимом человеческом присутствии, вся ваша предыстория и прецеденты, не говоря о приобретенных чертах, абсолютное равнодушие ко мне Пиночета и его неведение относительно того огромного вреда, который я ему причиняю, смехотворная ничтожность моих воплей, заурядность Анни, которая ходила туда-сюда с чашками кофе так, как будто была возможность спокойствия и мира, несмотря на угрозы, чудовищность которых не поддается формулировке, в силу всех этих причин Ажар бежал искать трещину в реальности, в которую можно было бы забиться, удрать от внутренней инквизиции, пыток водой, тисками с винтом и пустой, темной, глубокой и звучной пустотой, звучащей в искусстве вечно грядущего мира.
Когда я прочел интервью мадам Ивонн Баби на целой странице «Монда», оно было так мало похоже на меня, что я поверил, будто сказал ей правду. Отсутствие меня — как это на меня похоже. Наконец-то я существовал, как любой другой человек. Это так меня напугало, что у меня тут же началось ухудшение, и, когда госпожа Галлимар увидела меня в таком состоянии, с пучком суицидных попыток в руке, она сильно испугалась. Выражаю ей благодарность за доброту.
Придется вернуться назад. Раз уж мы говорим начистоту, делаю это против воли. Я не решился написать эти строки на положенном им месте, в предыдущей главе, потому что тогда я еще химически не созрел. Поэтому придется сделать отдельную главу и воздать по заслугам моему новому лекарству, название которого доктор Христиансен запретил мне вам называть из-за медицинской этики.
И я все скажу, потому что сейчас у меня нет угрызений совести, все смягчено. Вдруг найдется читатель, уж я его не пощажу. Себя я тоже щадить не собираюсь, потому что в этом отношении я самоучка, я изучил себя сам, без помощи Тонтон-Макута, и не могу больше от себя скрывать то, что я про себя знаю.
То, что я указал вам из своего генеалогического дерева, я знаю от матери. Она мне не врала, но очень Меня любила, а врать из любви — одна из старейших истин народного органа.
Не знаю, почему она выстрелила в себя из револьвера. Но пуля продолжает расти во мне.
Вынужден сказать здесь, что свидетельства о рождении Тонтон-Макута и моей матери, как назло, обнаружить невозможно. Они их оставили в России, в колыбели всех неприятностей, и как я ни старался их достать, не смог. Все смела великая чистка — большевистская революция. Мне никогда не узнать, были ли они братом и сестрой, был ли инцест. Наверно, это просто внутренний слух: у психики и подсознания всегда были злые языки. Клевещите, клевещите, что-нибудь да останется, и этим чем-нибудь, наверно, буду я. Я чувствую себя продуктом невыносимо братской близости по крови, и моя кровь тащит этот продукт от одного побоища к другому, он умирает под пытками, его пытают, и он пытает, он террорист, и ему объявлен террор, он раздавлен, и он давитель, я перепиливаю себя пополам, я шизофреник, одновременно уничтожающий и уничтожаемый, Плющ и Пиночет, и тогда меня охватывают мрачные гуманитарные, острые мессианические и реформаторские позывы, с применением психиатров и химических смирительных рубашек, меня терзает параноидальная вера, что все мужчины мне братья и все женщины мне сестры, отчего у меня нередко пропадает эрекция. Мне даже пришлось потребовать от Алиет представить выданное мэрией Кагора успокоительное свидетельство о рождении: отец тот-то, мать та-то, потому что Тонтон-Макут вполне способен зачать и ее тоже, как при нашем рождении, для того чтобы таким образом сделать привычным, путем повторения от отца к сыну, свое собственное преступление по отношению к нам. А может, он хотел генетически вывести путем умышленнейшей селекции особь, настолько чувствующую вину, настолько уязвимую, настолько восприимчивую, что в результате семья произведет на свет еще какую-нибудь литературную особь с хорошеньким кризисом мистицизма. Итак, у меня нет ровно никаких доказательств, и уж точно не мне предъявлять Богу или любой другой безответственной инстанции, похваляющейся своим воображаемым несуществованием для того, чтобы впутать нас в тщетные поиски отца, — еще один счет за нанесение умышленного ущерба, единственным результатом которого на сегодня является растущее число адвокатов, поочередно отказывающихся вести мое дело, потому что якобы параноики всегда обращаются к адвокатам, а не к врачам. Если я параноик, то уж точно мир населен людьми, у которых паранойи не хватает, так что преследований избегают только преследования.
Каждый день я опускал в почтовый ящик больницы анонимное письмо, без адреса и адресата, хотя последний и не существовал и поэтому привык к подобным обвинениям. Кстати, я узнал от медсестер, что не я один в больнице мучился болезненной зависимостью. На втором этаже жил всемирно известный писатель, который пытался создать Бога из произведений искусства. Его лечили уже три месяца, и я иногда встречал его в коридоре вместе с раввином Шмулевичем, — мама часто рассказывала мне о нем, потому что он был нашей родней по истребленной части и в свое время его мудрость была легендарной. Его зарубили саблей во время бердичевского погрома 1883 года, и в клинику доктора Христиансена он пришел только из страха. Это легко объяснимо и хорошо известно тем, кого пускали в расход без счета: от испытанного в прошлом ужаса всегда остаются неподконтрольные элементы и дремлют где-то внутри. Поэтому, как я сказал, когда я встречал его в коридоре, я делал вид, что не вижу его, из уважения к нейролептикам, но однажды он вошел в мою комнату и, пользуясь тем, что в детстве мать рассказывала мне на идиш одно старинное стихотворение, сказал мне с улыбкой: