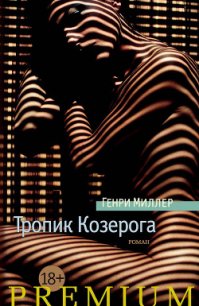Нью-Йорк и обратно - Миллер Генри Валентайн (бесплатные серии книг .TXT) 📗
Глядя на «Бубу с Монпарнаса», припоминаю бульвар Себастополь, запечатлевшийся на глазной сетчатке, такой, каким я увидел его из окна такси. После Северного вокзала я забылся и почти не смотрел, куда мы едем. Так и не разглядел Парижа толком. И вдруг понимаю: мы на бульваре Себастополь. Мимо неспешно проплывают магазины, группки людей и одинокие прохожие. Далеко за полдень, и в небесах пасмурно. Улица так и врезается в мою память — серенькой и грустной. Вроде бы затянутое тучами небо здесь ни при чем, но в нем самом есть нечто — вечное, неизменное, какие-то миазмы, источаемые не просто каждым жителем в отдельности, но и его предками, что покоятся в могилах. Бульвар Себастополь почти черен. Однако это цвет сажи, а не тьма египетская, мерцающая в зеркальных вестибюлях небоскребов. Я смотрю на людей на тротуарах, и они тоже черны. Черны и потрепаны. Изношены в клочья, под стать облупившимся стенам, покрытым копотью и блеклой желтофиолью. Вечер еще не наступил, а французы уже почернели. Впрочем, такими они были с утра. И спать лягут такими же. И пробудятся снова. По-прежнему хмурые небеса будут сеять дождь на мелкие прилавки, и в руках прохожих будут чернеть сумки для покупок. Кто-то прошагает по улице в одном ботинке, бережно держа другой за шнурки. И каждый су, пусть даже продырявленный, почтительно повертят между пальцев. Ничто не полетит в сточную канаву, хоть и банановая кожура. Назавтра станет еще хуже. Однако ни единому человеку и в страшном сне не придет в голову сказать: «Долой! Давайте уберем все это!» Никто не посмеет грезить о новой, свежей жизни, начатой с нуля. Ни одна душа не мечтает жить без грязи, нищеты, скорби, бедствий, болезней и смерти. Все эти стихии текут по улице черной рекой, будто в сточной трубе отчаяния, проложенной в подземных сферах, где бродят, не находя покоя, призрачные тени предков. Оба мира настолько близки, что подошвы верхних прохожих задевают затылки нижних. Переполненные кладбища начинают извергать мертвецов. Где-то на краю двух миров образовалась течь, и сквозь нее поднимается серый пар, окутывая живых неизменной черной пеленой. Прошлое тяжело дышит в затылки, колышется и трепещет подобно плащу, наброшенному на тонущего человека.
Между Францией и Нью-Йорком лежит океан — просвет между новым и старым. Садясь на теплоход, совершаешь прыжок, последствия которого невозможно предугадать. Продлись наш вояж не одну неделю, а, скажем, месяц, и мы вместе с теплоходом распались бы на бесчисленные атомы. Булонь приняла бы не пассажиров, а груду гнилых овощей. Никто не сумел бы склеиться вновь — или преобразиться, как после настоящей смерти.
Катясь в такси по бульвару Себастополь, вдруг понимаю: что-то и во мне успело подмокнуть, заплесневеть. Зачем тащить эту скрипучую оболочку в Париж, если она утратила душу?..
Только ближе к полуночи, сидя у Роджера, я понемногу обретаю себя. Перед нами распахнутое окно. Комната почти голая. Я смотрю на большой город — смотрю ясно, обоими глазами. Всего лишь вид из окна, однако это Париж. Где-то там, среди кротких, неровных улиц, блуждая в густой зелени, затерялся, должно быть, и бульвар Себастополь. И возможно, по нему бродят все те же люди — в лохмотьях и босиком. Но нет, даже если мои слова и верны, на самом деле это неправда. Только не сейчас! Теперь я подстроил свои линзы и могу видеть прямо. Ничто внешнее больше не заслоняет моего взора — ни стены, ни одежда, ни сами тела. Я вижу большой красный шарик, что плывет в потоке крови в жилах великого зверя по имени ЧЕЛОВЕК. И шарик этот — Париж. Он круглый, наполненный и всегда неделимый. Если, захлопывая ставни, сквозь крохотную щель я примечу мелькнувшую спину прохожего, то и тогда мгновенно пойму, как она соотносится с единым целым. Идет ли человек прямо или клонится к земле, ему не вырваться за пределы шара. Тот растянется, давая восхитительную свободу совершать самые немыслимые телодвижения, но никогда не лопнет. Сила, скрепляющая оболочку, мощнее, чем простая спина, мощнее любого человека, мощнее десяти миллионов людей, даже если те поднажмут разом.
Мы сидим в маленьком кабинете у открытого окна. По железной дороге, опоясывающей Париж, пыхтит поезд. Никакого рева или свиста, лишь негромкое попыхивание. В пасмурной дымке чудится какое-то движение. Атмосфера здесь тоже целая и низменная: она одинаково эластична как на железнодорожной эстакаде, так и в глубине моих легких, столь же противится бегу поезда, сколь и моему дыханию. Город пульсирует в летнем мареве, и кажется, огромный красный шар понемногу съеживается. Париж жарко дышит нам в спины. И вот я сижу в комнате со своими старыми друзьями. Все вокруг такое близкое, осязаемое, проницаемое, наполненное дыханием жизни. Нельзя не почувствовать, как дружба, сама ее сущность, исподволь улетучивается из горлышка неплотно закрытой бутылки, возносясь к оболочке великого шара, покрытой сетью морщинок. Сердце проникается дружелюбием вина и кривой абордажной сабли, что стоит у окна в углу. И я наслаждаюсь тем, чего немыслимо достичь в Америке: глубочайшим умиротворением.
Миг тому назад, коснувшись книги, я ощутил: блаженство отнюдь не покинуло меня. Ни разу в жизни я не испытывал подобного, перелистывая страницы. Будто пожал руку старому приятелю. Приятелю? На меня внезапно нисходит озарение: ну да, бульвар Себастополь и есть мой старинный приятель! Как же я сразу не признал его? Или такси бежало снаружи, тщетно пытаясь прорвать оболочку? А может, поверхность шара подавалась, подавалась и подавалась, пока кромешная тьма едва не удушила нас? Где же я был? Не важно, Генри, ты уже внутри. Просочился в щелочку между поздним вечером и полуночью. Внутри… Да, теперь я это чувствую. Сидя у окна, впервые краем глаза выглянув на улицу, — пожалуй, тогда-то я и проскользнул вовнутрь, сразу весь, душой и телом, без остатка.
На ум снова и снова приходит Америка. Вспоминается хмельная ночь в Нью-Йорке, и чей-то пьяный выкрик: «Любое великое искусство локально!» Любят американцы бросаться подобными фразами, не имея понятия об их истинном значении. Слово «локальный» подразумевает некое понятие места, чувство целого и его частей. Америка же лишь кажется новой, ибо здесь нечего и не с чем сравнивать. В реальности никакой Америки не существует! А есть миллионы предметов, сроднившихся между собой не более, чем детали автомобиля. Деталь не может ощутить новизну. Только старинные часы с остановившимся маятником способны взирать в изумлении на свежесмазанную, действующую шестеренку.
Вчера я прошелся по Рю-Бонапарт. Решил заглянуть в бистро, чтобы расспросить, как найти одну гостиницу. Ба, за стойкой все та же дама, что и годы назад. Она словно узнала меня. И я ее вроде бы тоже. На самом деле я отлично помню: прежде у нее был округлый животик, и когда она заливалась хохотом, посетители опасались за ее кровеносные сосуды. Трудно забыть женщину, которая кормила студентов в долг — и при этом не теряла радушия. Однажды я переплатил по ошибке, так «лишние» деньги пролежали в кассе, ожидая моего следующего визита. И вот, несмотря на то, что мы оба вспомнили друг друга, от нее — ни единого теплого словечка. Только дежурная широкая улыбка, предназначенная для всех и каждого, а там хоть загнись! Да, это Франция. Обожаю!
Совсем недавно, прогуливаясь по дороге, я заметил на поле человека, который старательно мотыжил землю. Выглядел он одиноким и самодостаточным, словно китайский болванчик. Мы находились по разные стороны забора. Рухни я замертво, мужчина продолжал бы мотыжить. Возможно, сровнял бы меня с землей. Ну и пусть, меня это вполне устраивает! Почти жалею, что все-таки не рухнул… хотя бы для проверки.
Кстати, это возвращает мои мысли к Маннхайму, к нашей беседе о китайцах. В голове всплывают его вступительные слова: «Очень жестокие». Во время путешествия я частенько думал о них, вспоминал своих соотечественников — столь гостеприимных, столь искренних и щедрых, «не знающих затаенной злобы», как выражается Кейзерлинг. Согласен, они и вправду таковы, но еще они очень жестоки. Они в тысячу раз бессердечнее китайцев. Почти самые безжалостные палачи в истории человечества. Их жестокость — это жестокость ребенка, который пройдет по вашему телу, чтобы добраться до новой игрушки.