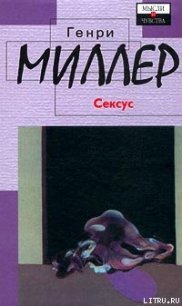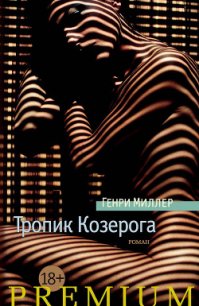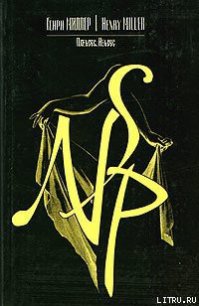Черная весна - Миллер Генри Валентайн (читать книги онлайн бесплатно полностью .txt) 📗
Все они, в комнате мелкого ремонта, были карликами — Рубин, Рэпп и Хаймовиц. В полдень они доставали большие круглые еврейские булки, мазали их маслом и клали сверху ломтики лососины. Пока родитель заказывал себе голубей и рейнское, Бунчек, закройщик, и три недомерка портняжки восседали на большой скамье среди утюгов, штанин и рукавов и обсуждали, серьезно и важно, всяческие предметы вроде ренты или язвочки в матке у миссис Хаймовиц. Бунчек был рьяным сионистом, членом сионистской партии. Он верил, что евреев ждет счастливое будущее. Но несмотря на все это, не мог правильно выговорить некоторых слов, таких как «отодрать». Всегда у него получалось: «Он отодраил ее». Кроме странного увлечения сионизмом Бунчек был одержим идеей сшить когда-нибудь пальто с глухим воротом. Чуть ли не все наши клиенты были с покатыми плечами и приличными животиками, особенно старые бездельники, у которых не было иных занятий, как бегать целый день от рубашечного мастера к портному, от него к ювелирам, от ювелиров к дантисту и от дантиста к аптекарю. Всегда возникала необходимость в стольких переделках, что к тому времени, как заказ бывал исполнен и можно было надевать обнову, сезон кончался и приходилось откладывать ее до следующего года, а на следующий год старые бездельники или набирали лишних двадцать фунтов, или теряли столько же, да и какая радость им была носить всю эту одежду, когда сахар в моче или вода в крови, даже если одежда бывала впору.
Был там Пол Декстер, человек, стоивший 10 000 долларов в год, но всегда сидевший без работы. Однажды он почти получил работу, но платили только 9 000 долларов в год, и гордость не позволила ему принять предложение. А поскольку при поисках мифической работы важно было прилично выглядеть, Пол чувствовал, что обязан одеваться у хорошего портного, вроде моего родителя. Когда он найдет, наконец, работу, то отдаст все, что задолжает. В этом Пол никогда не сомневался. Он был кристально честным человеком. Но мечтателем. Он приехал из Индианы. И как все мечтатели из Индианы, он был весь из себя такой приятный, такой обходительный, добродушный, сладкоречивый, что будь он замечен в кровосмесительной связи, и то мир простил бы его. Когда он напяливал галстук что надо, когда трость и перчатки были соответствующими, когда лацканы ложились плавно и башмаки не скрипели, когда в животе булькало полкварты ржаного виски и на улице не слишком лило или мело, тогда он обрушивал на вас такой поток горячей любви и понимания, что даже торговцы всяким портновским прикладом, которых не брало никакое проникновенное слово, бывали сражены на месте. Пол, когда у него все складывалось наилучшим образом, мог подойти к человеку, любому человеку в этом Божьем мире, взять его за отворот пальто и затопить любовью. Никогда я не встречал никого, кто обладал бы такой силой убеждения, таким магнетизмом. Когда любовь начинала подниматься в нем, чтобы выхлестнуть наружу, он был непобедим.
Пол говорил: «Начните с Марка Аврелия или Эпиктета, а дальше само пойдет». Он не давал совета изучать китайский или зубрить провансальский: он начинал с падения Римской империи. Моей мечтой в те дни было заслужить одобрение Пола, но ему трудно было угодить. Он хмурился, когда я показывал ему «Так говорил Заратустра». Хмурился, когда заставал меня сидящим с карликами и пытающимся толковать смысл «Созидательной эволюции». Больше всего он не выносил евреев. Когда появлялся Бунчек-закройщик с мелком в руке и метром, висящим на шее. Пол становился чрезмерно вежлив и говорил снисходительным тоном. Он знал, что Бунчек ни в грош его не ставил, но, поскольку Бунчек был правой рукой родителя, он его обхаживал, осыпал комплиментами. Так что в конце концов даже Бунчек вынужден был признать, что в Поле что-то есть, какое-то необыкновенное своеобразие, которое, невзирая на его недостатки, заставляет всех чувствовать расположение к нему.
Внешне Пол был сама жизнерадостность. Но в душе у него царил мрак. Время от времени Кора, его жена, вплывала в ателье и с глазами полными слез умоляла родителя повлиять на Пола. Они обычно стояли у круглого стола подле окна и тихо переговаривались между собой. Она была красивой женщиной, его жена, высокой, статной, голос — глубокое контральто, которое, казалось, дрожало от сдерживаемой муки, когда она называла имя Пола. Я мог видеть, как родитель кладет руку ей на плечо, утешая и без сомнения обещая сделать все возможное. Она любила родителя, мне это было видно. Она обычно стояла вплотную к нему и заглядывала в глаза так, что невозможно было устоять. Иногда родитель надевал шляпу и они вместе спускались на лифте, держась за руки, словно направлялись на похороны. Они шли снова искать Пола. Никто не знал, где его искать, когда у него начинался очередной запой. На несколько дней он исчезал из поля зрения. Ну и конечно, однажды он объявлялся, подавленный, кающийся, приниженный, и умоляя всех простить его. Одновременно он протягивал свой костюм, чтобы его почистили от грязи и пятен блевотины, подштопали на коленях.
После запоев Пол бывал особенно красноречив. Он разваливался в одном из глубоких кожаных кресел — перчатки в одной руке, тросточка — между ног, и закатывал речь о Марке Аврелии. После больницы, где ему вылечили свищ, он стал говорить еще лучше. То, как он усаживался в большое кожаное кресло, заставляло меня думать, что он приходил в ателье явно потому, что нигде больше не мог найти столь располагающего сиденья. Процедура усаживания в кресло и вставания с него была мучительной. Но когда она благополучно завершалась. Пол, казалось, был на седьмом небе от счастья, и речь струилась с его уст волнами бархата. Родитель был готов слушать его день напролет. Он частенько повторял, что Пол не лезет за словом в карман, и на его языке это означало, что лучше Пола нет на свете человека и что у него пылкая душа. И когда Пол чересчур мучился угрызениями совести, заказывая очередной костюм, родитель успокаивал его, приговаривая: «Ничто не может быть слишком хорошо для тебя. Пол… ничто!»
Должно быть, Пол тоже распознал в моем старике родственную душу. Никогда прежде не доводилось мне видеть двух людей, глядевших друг на друга с таким восторгом обожания. Порой они стояли друг против друга и смотрели один другому в глаза, пока не выступали слезы. Это правда, ни тот, ни другой не стыдился своих слез — вещи, о которой нынешний мир, похоже, совсем позабыл. Я как сейчас вижу простоватое веснушчатое лицо Пола, его довольно толстые губы, которые подергивались, когда родитель в тысячный раз повторял ему, какой он чертовски замечательный парень. Пол никогда не говорил с родителем о вещах, в которых не разбирался. Но о чем-то простом, обиходном он рассуждал с такой серьезностью, выказывая такую бездну доброты, что душа родителя, казалось, воспаряла к небесам, и когда Пол уходил, вид у него становился похоронным. Он уединялся в своем крохотном уютном кабинете и сидел там в тишине и одиночестве, глядя, словно в трансе, на ряды проволочных корзинок, заполненных неотвеченными письмами и неоплаченными счетами. Когда я видел его в подобном состоянии, это обычно так действовало на меня, что я тихонечко ускользал вниз по лестнице и отправлялся домой по Пятой авеню до Бауэри, от Бауэри до Бруклинского моста, там через мост и мимо вереницы дешевых ночлежек, протянувшихся от здания муниципалитета до Фултон-Ферри. И если дело происходило летним вечером и у дверей ночлежек толпились праздные обитатели, я жадно вглядывался в их изможденные фигуры, думая, сколь много среди них таких, как Пол, и я не понимаю в жизни что-то такое, что делает этих явных неудачников привлекательными для других. Счастливчиков-то я повидал, когда они были без штанов; я видел их скрюченные позвоночники, хрупкие кости, их варикозные вены, опухоли, впалые груди, толстые животы, отвисшие от того, что столько лет мотались, как бурдюки. Да, я хорошо знал все расфуфыренные ничтожества — у нас в списке числились лучшие семьи Америки. А какие нам представали гной и грязь, когда они вываливали перед нами свое грязное белье! Можно было подумать, что, раздеваясь перед своим портным, они испытывали потребность выплеснуть и всю мерзость, что скопилась в прикрытых сверху выгребных ямах, в которые они превратили свои души. Все эти красивые болезни от скуки и богатства. Разговоры о себе ad nauseam. [41] Вечно «я», «я». Я и мои почки. Я и моя подагра. Я и моя печень. Когда я думаю о жутком геморрое Пола, о его восхитительном свище, который ему вылечили, о всей той любви и откровении, что ему принесли его опасные раны, он представляется мне не человеком нашего века, но родным братом Моисея Маймонида, который, будучи в плену у мусульман, оставил нам поразительные научные трактаты о «геморроях, бородавках, чирьях» и прочем.
41
До тошноты (лат.).