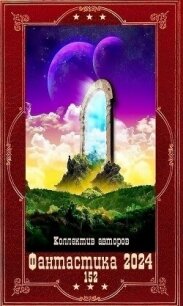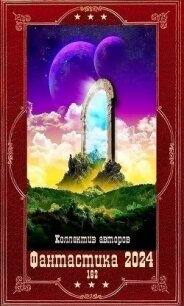Слоновья память - Лобу Антунеш Антониу (хорошие книги бесплатные полностью .txt, .fb2) 📗
Он остановил машину около трейлера с немецкими номерами, настолько грязного, что от него явно веяло духом приключений, слегка смягченным уютными занавесочками в горошек, и опустил стекло, чтобы вдохнуть запах ила, стоя в котором по колено мужчины и женщины собирали наживку в ржавые консервные банки. Жнецы отлива, сказал он сам себе, взращенные фашизмом цапли, длинноногие птицы голода и нищеты. Барабанная дробь крови в венах привела ему на память стихи Софии Андрезен:
За спиной его грохотали машины, подчиняясь властным взмахам рукавами, которыми со своих цирковых тумб подгоняли их регулировщики, укротители с воздушной пластикой танцоров. Лавки, где торгуют птицами, порхали среди продовольственных и хозяйственных магазинов, в которых связки веников лохматыми плодами свисали с потолка, взмывали прямиком в небо мансарды, отчаянно маша крыльями развешенных между балконами выстиранных рубах, выцветавших на фоне щек-фасадов. Мощное здание Арсенала ощетинилось водорослями, грезя о немыслимых кораблекрушениях. Чуть дальше кладбище расстилало белую скатерть могил, похожих на молочные зубы, над строем деревьев и шпилями церкви: четыре пополудни постепенно созревали на часах, чей бой, казалось, со времен Фернана Лопеша [77] оставался все таким же: спокойным и размеренным, как мертвая трагедия. Поезда, отходившие от набережной Содре, влекли в Эшторил первых игроков и последних туристов, норвегов с указательным пальцем, заблудившимся в карте города, улицы и река начали стекаться в единый летний горизонтальный покой, который дымящиеся трубы заводов Баррейру окрашивали в пролетарский пурпур — предвестник заката. Грузовое судно входило в гавань в ореоле прожорливых чаек, и психиатр подумал, как бы рады были дочери стоять в этот миг с ним на этом самом месте, осыпая его дождем нетерпеливых вопросов. Тоска по дочерям постепенно смешалась с тоской, навеваемой обликом перекликавшихся прибрежных жнецов, чьи возгласы долетали до него искаженными и приглушенными, преломленными в воздухе, почти сведенными на нет, низведенными до слабых отблесков эха, из которого ветер ткал звуковые вуали; на спину давил всей своей тяжестью Лиссабон, будто горб из домов, среди которых бродячие псы тщетно вынюхивали метку идеального пекинеса. Крошечные лица дочерей были в его глазах обведены болезненными линиями раскаяния, которые по выходным он тщетно пытался стереть щедрыми подачками и вязкой нежностью, играя роль расточительного волхва, подносящего бесчисленные шоколадки, о которых его не просили. Думая о том, что вечером он не поцелует их сонные физиономии и не пожелает спокойной ночи, что не придет на цыпочках отгонять их ночные кошмары, не будет шептать им на ухо слова любви из секретного словаря утенка Дональда и Белоснежки, что, не обнаружив его утром в постели рядом с мамой, они не удивятся, ведь уже начали привыкать, он чувствовал себя злодеем, совершившим чудовищное преступление: бросившим собственных детей. В будние дни он мог только тайно шпионить за ними, быть Жозе Матиашем этих двух безвозвратно потерянных Элиз [78], шедших другой, своей дорогой, двух крошечных капелек его крови, за которыми он, раздираемый горем, шел, отставая все больше и больше. Наверняка они разочаровались в нем, были ошарашены его дезертирством, и все еще ждали, что он вернется, что они услышат его шаги на лестнице, что он их обнимет, засмеется знакомым смехом. Кружили по спирали в голове слова отца: жаль мне в этой истории только твоих дочерей, — заряженные сдержанным волнением, в котором угадывалась скрытная любовь, замеченная и оцененная будущим медиком, только когда он вышел из подросткового возраста. Он почувствовал себя злобным ничтожеством, больным животным, запертым в удушающем пространстве настоящего без прошлого и будущего. Надо ж было соорудить из собственной жизни смирительную рубаху, в которой невозможно шевельнуться, надо ж было обмотать себя ремнями недовольства собой, запереть в клетку одиночества, наполнявшего его беспросветной горькой тоской. Где-то часы пробили полпятого: если ехать достаточно быстро, можно успеть к концу школьных занятий, и это будет истинным освобождением, победой радости над тупой усталостью: что-то в нем, что-то, пришедшее из самых глубин памяти, настойчиво уверяло, противореча устрашающему официальному гнету таблицы умножения, что существует где-то некий черный квадрат, то ли на чердаке чердака, то ли в подполе подпола, где дважды два — не четыре.

Скорчившись между витриной кондитерской и ларем-холодильником с мороженым, рокочущим, будто сонный белый медведь, психиатр наблюдал за воротами школы подобно краснокожему, из засады под скалой подкарауливающему бледнолицых разведчиков. Верного вороного он до этого оставил в трех-четырех сотнях метров у рощи, что в Бенфике, населенной жирными горлицами — этакими модифицированными соколами, приспособленными к выживанию в городской среде, вынуждающей Великого Маниту маскироваться под Христа с картины «Страсти Спасителя» и ползти чуть ли не по-пластунски от платана к платану под недоуменными взглядами бродячих мелочных торговцев, краснокожих братьев, также вступивших на тропу войны, но ограничивающих боевые действия беспорядочным бегством при виде полиции, подхватив подносы со скальпами, замаскированными под кошельки, носки и тесьму. Сейчас, за бруствером из шоколадных пломбиров, обшаривая горизонт близоруким орлиным взором, психиатр подавал сигаретным дымом сигналы, в каждой букве которых отчетливо читалась безмерность его тревоги.
В доме напротив жила в окружении кошек и портретов популярных епископов с их же автографами престарелая тетушка и ее неразлучная слепая на один глаз прислуга — почтенные скво семейного племени, посещаемые на Рождество делегациями скептически настроенных родственников, потрясенных их воинствующим долголетием. Втайне психиатр не мог простить родственницам того, что они пережили бабушку, которую он очень любил и до сих пор вспоминал с нежностью: когда ему было плохо, он шел к ней, входил в комнату и без церемоний заявлял:
— Я приласкаться пришел.
Он клал ей голову на колени, и ее пальцы, прикасаясь к его затылку, усмиряли беспричинный гнев и утоляли жажду нежности. С шестнадцати лет и до сего времени единственными серьезными потрясениями для него стали смерти двух-трех человек, питавших к нему неизменную привязанность, которую не могли разрушить даже его неожиданные выходки. Эгоизм психиатра измерял пульс мира в соответствии c вниманием, которое уделил ему мир: о других он вспоминал слишком поздно, когда они уже давным-давно отвернулись от него, утомленные его дурацкой спесью и презрительным сарказмом, маскирующими застенчивость и страх. Лишенный доброты, терпимости и мягкости, он беспокоился лишь о том, чтобы о нем самом беспокоились, и был единственной темой своей заунывной симфонии. Он даже спрашивал друзей, как они умудряются существовать вне его эгоцентрической орбиты, в пределах которой стихи и романы, прожитые, но так и не написанные, тянулись за ним нарциссическим шлейфом, не имевшим никакой связи с жизнью, сотканным из пустых словесных конструкций, из изысканных фраз, не обремененных чувством. Упоенный созерцатель собственных страданий, он мечтал переформулировать прошлое, раз уж не удавалось бороться за настоящее. Трусливый и тщеславный, он не решался прямо взглянуть себе в лицо, понять, что он никчемный труп, начать мучительно учиться быть живым.