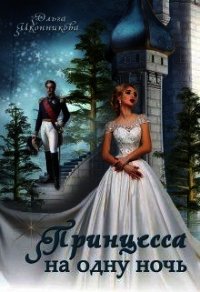Непокой - Дессе Микаэль (чтение книг TXT, FB2) 📗
Я бы и оставил ее в покое, но мошка спать не дозволяет, и скука смертная. Нахожу на стеллаже картишки.
– А давайте в дурачка!
– Ни за что!
– Это почему?
– С каждой проигранной партией я тускнею. Так и до полтергейста доиграться недолго.
– Но надо же, – говорю, – как-то душу отводить.
– Отводить-то надо, – отвечает, – но и особо увлекаться нельзя. Свою я вот до Петра чуть не довела. За версту нагляделась на него, какой он мужичина солидный, деловой, и обратно потопала, тут Розанов недочитанный.
– А Метумов кто? – поинтересовался у Истины Африкан. – Якут же, кажется, да?
– Какой якут? Успокойтесь, – отвечала Истина. – Русский он, русский.
– Только глаз узкий, – возник между ними малость поддатый Метумов в сопровождении вдрызг пьяного Агента. – Кстати, что-то не видно Дюшена.
– А мы его заперли – ха-ха! – заперли журналюгу в изоляторе, – еле выговорил Агент. Под изолятором он имел в виду неотапливаемый карцер с мягкими стенами. – Он там вырывался, деньги предлагал. Изводился: “У меня бабушка – майор! Побойтесь вооруженных сил России!” – но лично мне его скулеж до свечки.
– Да уж, – сказал Африкан. – Всю ночь ломился и кричал до исступления.
– Как это вы его заперли? – спросил Метумов. – Замок от изолятора еще ведь в желтую революцию выбили.
– Да в том ведь и суть, – сказала Истина. – Дюшену, чтобы оказаться на воле, всего-то и требовалось потянуть дверь на себя, а не пытаться ее выбить, как бешеной горилле. У него ушла целая ночь на пустячную головоломку, и теперь посмотрите на него.
Дюшен и впрямь на протяжении всего этого времени находился в шатре. Зашуганный, он ежом кочевал из угла в угол с угрюмо обвисшим едальником.
– Будет знать. – Истина покачала бокалом и криво ухмыльнулась. – Пасквили на нинистскую церковь тиснению не подлежат.
Еще в самом начале вы спросили, как я буду обозначать «трансцендентное нутро» в своих письмах. Когда затрагиваешь глубокие материи – одних рискуешь спугнуть заумью, а других дезинформировать. Не буду обращаться за ответом к философии, языку людей пресыщенных. Это не про меня. Я слаб от болей, беден и наивен, потому нарочно делать из своего письма чехарду не стану. Скажем, к душе хорошо идут почти все прилагательные, а расхожих праворульных терминов я знать не знаю. Вот и порешали.
Октябрь догола общипал деревья, и тут же календарь схуднул на месяц, прервав голодовку на день в преддверии зимы. Ноябрю доверять – себе дороже выйдет. Он то блеснет солнцем в шутку, то снежком припорошит, но не согреет и не вдарит едреным морозом, чтобы утвердить уже зиму в праве. Плутовской месяцок. Вскружил нам головы, и мы с Логикой решились на побег.
Раз в сутки Финский залив воспламеняется. Когда солнце садится. Где-то в глуши темнеет. В пресловутой душе. За полгода до, в мае, мы облюбовали место на тамошнем бережке. Отработали смену в аптеке и не вернулись в Бамбуковый дом. Промотались всю ночь и мчали из города в предрассветном тумане. На заре ночь осела росой на наши черствые существа, не жизни даже. Как много эта влага значит! Никакая другая вода не вселяет столько надежды. Ради нее стоит хотя бы однажды дождаться майского рассвета.
И вот ноябрь. Внизу – босые ноги на остывшем песке. Песок чистый. Это оттого, что тут не бывает людей. Если ты играешь в прятки с человечеством, то здесь твои шансы быть найденным ничтожно малы. Ты можешь умереть в ожидании водящего. Беспроигрышный вариант.
Заночевали кульком под деревом в пошитом из тряпок спальном мешке. Вдвоем. На рассвете проснулся от холода. Один. На берегу – шапка, чулки и куртка, даже нижнее белье. Следы ведут в воду. Что тут скажешь? Bon voyage!11 Я послушал ветер, оглядел косу и пошел вдоль побережья влево. Она лежала ничком, укутанная почерневшими водорослями. Правнук Жака Кусто – мой осведомитель из шестой палаты – говорит, что ее вовремя заметил и вытолкнул на берег кракен Фонтанки, бывший на разведывательной вылазке в Финском заливе. Нет причин ему не верить. Как я уже писал, кракен с Истиной повязан, и аккурат в осенний сезон промышляет контрабандой всячины из Финляндии, которую в Петербурге реализует, кто бы вы подумали…
Логика не дышала. Я – о, счастье! – лобзал ее соленые губы, но только вытягивал воздух. Хотел вымыть языком песчинку с ресницы, высосать ее глазное яблоко – что ж это на меня нашло?! – но она очнулась. Я даже расстроился. Перевернул ее на живот и похлопал по спине. Когда вода вышла, взял на руки и понес к дереву, уложил в спальный мешок, взгромоздил его на плечи и помчал на всех парусах к шоссе. Через четверть часа уже усадил ее в запыленную «Мазду» и велел водителю везти до Комендатской площади, и если по дороге случится будка, заранее вызвать туда неотложку. Перепуганный, он так дал по газам, что я еле на ногах устоял. Но устоял, чтобы тут же прилечь.
Пазл сложился, и я жалел об этой авантюре, жалел, что рассказал ей, как меня травил отец, и что с Нини мы встретились на рубеже между жизнью и смертью. Она хотела бежать не со мной, а к нему.
Медикаментозный анабиоз души (к ней, как видно, хорошо идут не только прилагательные), а если перевести на язык сознания, то это будет «в голове густой туман». Он у меня валил из ноздрей, был черен и коптил. Напомаженный его сажей, я добывал нейролептики и мешал их со спиртным. Эти снадобья в избытке имелись у Вьюнка, который в том году заведовал аптекой и якшался с маргинальной компанией, из-за которой его командировочная квартира в центре города вскорости превратилась в притон. Силясь на словах отречься от всего человеческого, эти люди тащили за собой совершенно необязательный для мыслящего человека аксессуар – интеллигентский крест. Ноша эта часто идет в комплекте с фужером, в котором еще триста горьких грамм.
Вьюнок звал меня в гости с таким упорством, с каким мог бы вытащить Сатану из преисподней. Он и его споил бы в сопли. К нему я и решил податься – вернуться в Бамбуковый дом без Логики было все равно, что влезть в петлю.
Добрался до Невского. Свернул на улицу Рубинштейна. Неизвестные сорвали мемориальную доску Довлатову, а на противоположной стене написали: «На тебя смотрит вся страна. Ты клоун. Тебе стыдно». Как я устал от звезды дорог в конце улицы этой, на которую выезжают все автомобилисты-сволочи, когда я перехожу один из ее лучей. Неужто можно по такому соскучиться? Но тогда машин там не было, а я все равно стоял и ждал зеленый свет.
В квартире, кроме Вьюнка, пьянствовали еще четыре троглодита. Никто ко мне не цеплялся, и я втихую налакался чем-то на сосновых шишках. Потом один ушел, и пять тел, включая мое, расположились в двух комнатах. Один лег в коридоре, чтобы притормозить энтропию Вселенной в пределах двушки. Процесса расстановки уже не помню, но такой расклад я, проснувшись первым, обнаружил утром. Переступив через сопящий дефис в прихожей, я вошел в кухню. С похмелья меня знобило. Продегустировав на задок всю мебель, я все же уселся на пол под окном, вжав спину в крытую батарею, закрыл глаза и стал убаюкивать тошноту. Кто-то пришел, наверное, получасом позже, уселся за стол и закурил.
– [Дверь притона словно из картона! По ней стучат вредители. Зачем? Ведь у обители в том месте, где порог, и слон пройти бы смог!] – послышался привычный уху ни мужской, ни женский, ничей голос.
– А за дверью? Ступить три шажка вниз по ступеням. Погладить деревянные перила. Подумать: а не оттого ли они целы, что их полвека не мыли и не красили, а только руками вот так полировали? Интерес в себе унять, забыть и дальше пойти, чтобы жить, а не молча измышлять.
– [Первый вопрос всегда должен быть: о чем?]
– О чем я сижу здесь? О чем запах немытого тела? О чем шелушится кожа на нем? О чем головная боль? Алкоголь – это ж счастье в кредит. Мы все спины не разгибаем, мучаемся, добиваясь мимолетной блажи, а тут – наоборот. Посижу, значит, еще чуть-чуть, раз все по справедливости.